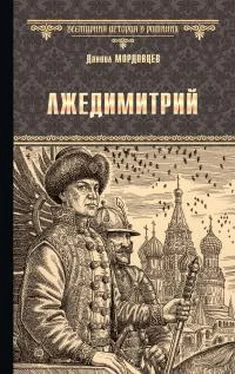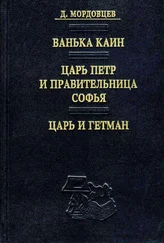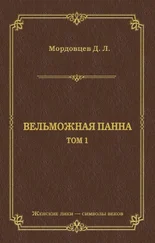— Ишь ты, вавилония какая! Почто, значит, Бориске служили.
— Верно — вавилония. Так князи-то словно раки печёные стояли. А и сам-от он, царевич, гораздо добер. Сказывал мне Григорий Отрепьев.
— Это Гришка-то расстрига?
— Он самый. При ём он состоит, аки дьяк, не то жилец. Так сказывал. Привезли это к ему с Москвы грамотку от покойничка, от Фёдора Борисыча, когда он ещё царём был. Пишет это он: «Благоверный-де государь, Димитрий Иваныч всея Русии. Прости-де меня, окаянного. Не я-де причинен в кровопролитьи российском, а блаженные памяти родитель мой, Борис Фёдорыч: он-де на тебя зло мыслил, а не я. Я-де уступаю тебе честь и место — ты-де законный царь. А я-де пью чашу смерти — зелье отравное. Бог-де да благословит тебя на царство...» Так чел это он, царевич, грамотку-то эту, а слёзы у него в три ручья — так и льют, так и льют, что зачем-де Фёдор Борисыч живота лишил себя — смертное зелье принял...
— Что ты, дедушка! — вмешались саженные плечи. — Федор-от не пил смертного зелья, а его удавили.
— Помилуй Бог!
— Верно, дедушка. Мне это дело сведомо — сам стрелец Якунько сказывал. Дело было так: приходим-де мы, сказыват Якунько, — я да ещё двое стрельцов, Осипко да Ортёмко, да дворяне Михайло Молчанов да Шерефединов, — приходим-де, гыт, к ним, Годуновым, в палаты. Старуха-то царица Годуниха и ну де вопить в истошный голос. Плачет-де и девка, дочка Оксинья. А и красавица-де, говорит, писаная: кровь с молоком да ещё и с сахаром. Жалко, гыт, стало её — дрожит вся, сердешная. Мы её, гыт, тихонько на руки, да словно пёрышко снесли в другой покой и отдали мамушке — береги-де голубку чистую. А сами к ним — к старухе да к сыну. Развели и их. Старухе-то петлю на шею — так только-де захрипела: «Федюшка-де да Оксиньюшка» — на том и отошла. Мы, гыт, к ему, к молодому. А он, гыт, детина дебелый, сбитень такой, кулачистый гораздо, — да, гыт, в зубы! Осипко-то и свались. Ортёмка к ему — он и Ортёмку в салазки: и Ортёмка тычком. Так я, гыт, по-пёсьи — как псы медведя берут: я его, гыт, за тайный уд — да и ну давить. Он и посинел. Тут Осипко-то очунял маленько, да дубиной его в темя — так и захрипел боровом, вытянулся. Мы, гыт, на его петлю — и довавилонили раба Божия. Так-ту, дедушка, дело было. Годуниху с сыном удавили.
— Мати Божая! Владычица! Господи долготерпеливые! Что твои люди-то делают? — ужаснулся офеня, всплеснув руками. — Так их удавили, баишь?
— Удавили, дедушка.
Офеня заплакал. Мелкие, частые слёзы так и потекли по его поседелой бороде.
— Господи помилуй! Господи помилуй! — шептал он, утирая слёзы. — Ох, Оксиньюшка, горькая сироточка! Ох, дите бесталанное, горемычное!.. Где ж она ноне, голубушка? — спросил он, немного помолчав.
— Одни сказывают, якобы в Девичьем, другие — кабы у Мосальского, у Рубца князя, — отвечал купчина с серьгой и потом прибавил: — Вот ты, Ипатушка, друг, плачешь об ей, об сиротке Годуновой. Жалостно — что говорить? А я вот, друг, рыдал, аки баба кликуша, когда святейший патриарх Иев с нами прощался. Уж и плакал же я, скажу тебе — боровом, кажись, ревел. Да и вся-то церковь плакала — что Боже мой! Ручьём лилась... Как узнал это он, святитель, что царь Димитрий Иванович всея Русии подлинно жив, и что он, святитель-то, облыжно его, государя, Гришкой-расстригой облаял, вором поносил, да анафематствовал над ево головушкой, так и говорит: «Не быть мне боле святителем — роспанагиюсь-де я сам, своими-де святительскими рученьками сыму с себя панагию Божью». Ну, друг, и вошёл это он во храм, аки подобает патриарху, облачили ево, чу, во святительские ризы, аки архиерея... Ладно. Стоим мы, смотрим — что дальше будет? А он, друг ты мой, возьми да и сыми с себя панагею-то. Мы так и ахнули! Снямши-то её, друг мой, он и кладёт её перед образом Владимирской Божьей Матери, да эдак ручки-то вздемши горе, и говорит: «О, всепетая, — говорит, — Мати! О, всемилостивейшая пречистая Богородица! Эта, говорит, — панагия и святительский-де сан возложены на мя, недостойного, в твоём храме, у твово-де честного чудотворного образа. Возьми же де её сама таперь, Матушка, панагию-то свою: ноне де идёт на твою православную веру вера еретича...» И как стали это с ево, друг мой, после панагиюшки-то сымать ризы архиерейски, как стали разоблачать сердешного — так вся церковь в слёзы, а бабы — ну, те ведь водянистее нас — так те в истошный голос — руки и ноги у ево целуют да воем воют... Уж и поплакали же мы — и Боже мой! Откуда только и слеза бралась!
— Купчина правду говорит — это точно, что все плакали, инда меня слеза прошибла, словно бы кто рогатиной под микитки сунул, — выступил снова оратор из Охотного ряду с саженными плечами, тот, что особенно интересовался «скифетром» и судьбой Годуновых и рассказывал, как стрельцы Якунько да Осипко да Ортёмко покончили с ними. — А ты, дядя, слухай, что опосля было (обращался он к офене). Всё это не к добру... Как выставили, чу, телеса покойничков — Годунихи старой да сынка ейного, чтоб народ-от посмотрел, так я и видал их тогда... Страшно таково было глядеть на них — не видал я допреж того удавленников. А там возьми да самого-то Бориса вынули из могилы, из Архангельского-то собора: негоже-де самоубивцу лежать с благоверными царями. Ну, вынули. Как везли-то его гроб к Варсонофью, за Неглинную, так всё время, сказывают, на гробе-то ворон сидел и каркал. Сгонют ево с гроба-то, а он опять сядет, да крыльями машет, да «кар-кар-кар!» таково страшно... Недаром народ толкует...
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу