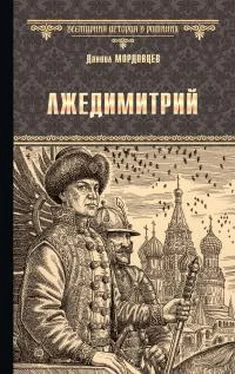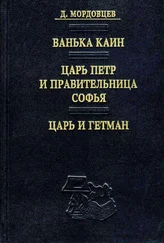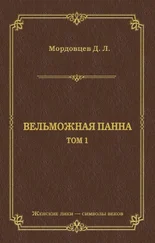— Что толкуют? — с испугом спросил купчина.
— Да что жив он...
— Кто, родимый?
— Да он — Борис. Воместо себя, сказывают, он велел похоронить идола — истукан такой, весь в ево, как две капли воды. Немцы ему такой делали.
— А где ж он сам?
— Знамо — хоронится. Вон ворон-то и каркал.
— Что ворон! Ворон, знамо, — птица, — возражает скептик из Обжорного ряда.
— Птица! Птица — птице розь... Вон и курица птица, — горячился оратор из Охотного ряду.
— Ан курица не птица! — сострил Обжорный ряд.
Все рассмеялись. Посрамлённый Охотный ряд вспылил.
— Не птица, Дурова ты голова! А коли ежели курица петухом поёт? — начал он философствовать.
— Что ж, что поёт? Знамо, сдуру, как баба.
— Ан не сдуру, а к худу, чу.
— Сказывай! У нас, в Обжорном, таких кур едят.
— Каковы куры...
— Что куры...
— А вот что куры!
И Охотный ряд, чувствуя, что полемическая почва уходит из-под его ног, что слов и логики больше не хватает и что ни куры, ни вороны, ни всякая другая птица его не поддержат в философском споре, вспомнил, что у него есть сильнейший аргумент — кулак в пудовую гирю весом, — и влепил этим аргументом в рыло Обжорному ряду.
— Вот что куры!
— А вот те ворон! — отвечал тем же Обжорный ряд.
И ряды вцепились друг другу в волосы, благо у каждого на голове был их целый бор дремучий. Насилу водой разлили горячих философов...
— Ишь куры!..
— То-то ворон! — бормотали они, встряхиваясь.
— А как пришли это к ему немцы в Коломенское — встречать, — снова завладел общим вниманием офеня.
— Каки немцы? — приводя в порядок свой дремучий бор, спросил Охотный ряд.
— А здешни, что у Бориса-то служили.
— Это после-то нашей трёпки, как мы у голландца Гнюса тешились.
— Ну? — перебил его купчина с серьгой.
— Ну, так вот и пришли немцы с повинной, — продолжал офеня. — Прости нас, говорят, царь и великий князь — Димитрий Иванович — всея Русии, не прогневайся, что мы Борису Годунову служили и супротив-де тебя шли. Мы-де шли по закону, по крестному целованию. А как ноне-де Годуновых не стало, так мы тебе крест целуем — рады-де служить и прямить тебе.
— То-то... Крест... Это после того, значит, как мы немца Гнюса в медовой бочке кстили, — объяснял Охотный ряд.
— А ты помолчи, парень, — останавливал его купчина.
— А ты что?
— Да что? Ты-то что к ему в рот с ногами лезешь.
В толпе послышался смех. Но охотный ряд не осмелился бить купчину, а только огрызнулся:
— Ноги в рот — ишь выдумал, бес... Точно у меня не язык, а ноги... Ишь, чёрт старый...
— Ну, и пришли немцы, говоришь? Служить-де и прямить хотим? — наводил купчина офеню на прерванный рассказ о немцах.
— Точно, служить, чу, и прямить хотим. А он им говорит: «Добре, говорит, немцы! Вы верно служили Борису и под Кромами не сдались — ушли к Борису. А теперь-де Бориса нет, и вы пришли ко мне с повинной — и за то-де я вас жалую». Да опосля того и пытает у старшего немца: «Кто-де у вас держал стяг под Добрыничами?» — «Я-де, — говорит, — царь-осударь, держал стяг под Добрыничами»? — это немчин-то отвечает да и вышел из ряду. А Димитрий Иванович всея Русии положил эдак ему руку на голову да и говорит: «Памятен-де мне твой стяг, немец. Вы, немцы, мало-мало тогда не пымали меня, да мой конь унёс. А досталось бедному коню, — говорит, — он-де и ноне болен. А что, — говорит, — немцы, вы тогда убили бы меня, коли б пымали?» — «Это точно, что убили б», — говорят. А он-то смеётся: «У Бога, — говорит, — в книге не то обо мне написано».
— А что ж там написано? — полюбопытствовал Охотный ряд.
— А то, что ты дурень, — отвечает Обжорный ряд.
Трах-тарарах! В зубы! По-московски — и пошла писать.
— Едет! Едет! — прошёл могучий говор по толпе, и толпа колыхнулась, как море, толкнувшись о гранитную гору.
Задвигалось, ходенём заходило живое море голов человеческих — московских голов, хоть и расходиться было негде: упади с неба яблоко — так бы и осталось на головах или на плечах, как вон тот малец в красной рубашонке и с курчавой, льняной головёнкой, пробирающийся по плечам толпы к гиганту тятьке — к саженным плечам из Охотного ряда.
— Тятька... Тятька! — лепечет ребёнок, которому хотя всего два года, но размерами он уже напоминает гиганта тятьку и приводит в изумление всю Москву: у какой-де такой бабищи московки мог найтись такой животище, чтобы выносить в нём и родить такого телёнка! Тятька-тятька!
— Иди, иди! У! Подлец! — отвечает нежный родитель.
Заколыхались человеческими головами и кремлёвские стены, и ограды церковные, и заборы, и крыши, и карнизы с куполами на церквах — заколыхались, заходили, словно бы они могли сами ходить и колыхаться.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу