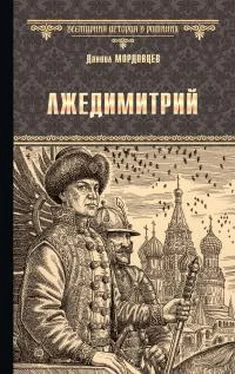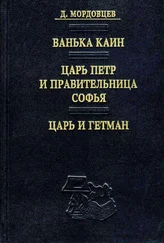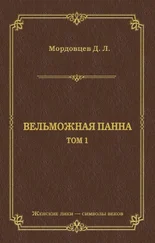— Вот он, батюшка, голубчик! Вона! Ах ты, солнце праведное, взошло ты, ясное, над Российскою землёй. Свети ты над нами отныне и довеку!
А он едет да на обе стороны кланяется — а Москва так и стонет, так и надрывается.
А тут вокруг него, словно бор золотой с серебром, бояре, князи, окольничие: бородами помавают, золотым платьем глаза слепят, грузным телом коней томят.
А это что за черти косматые-волохатые, каких Москва ещё и не видывала? Косматые шапки на них — с голов валятся, верхи на шапках — по плечам треплются, маком цветут. Уж и Господи! Что у них за посадка молодецкая, что у них за усищи богатырские, что под ними за кони дьявольские! Это любимцы царёвы — баловни его, — казаки донские, запорожские, волжские и яицкие. Со всей земли как пчёлы слетелись удальцы невиданные... Впереди Корела со Смагою — загорелые, запылённые, словно в аду побывали. Подальше — Куцько в широчайших штанищах, с чубом в девичью косу, с усами полуаршинными: глядя на него, московские бабы сквозь землю проваливаются, груди надрывают — ахают. А он только усом помаргивает, весёлыми глазами помигивает. Тут же и курчавый Треня: он и не чувствует, как крупные слёзы через усы на шитое седло капают, на московскую землю скатываются.
Димитрий поднял голову — перед ним словно вырос Кремль во всём его своеобразном величии. Вздрогнул невольно пришлец — снял шапку, и дрожащие губы его проговорили, как-то выкрикнули:
— Господи Боже! Благодарю тебя! Ты сохранил мне жизнь и сподобил узрети град отцов моих и мой народ возлюбезный!
И у него, как у Трени курчавого, по щекам текли слёзы умиления.
И Москва не выдержала — зарыдала! Зарыдало море людское... О! Бедные люди!
А колокола-то ревут-стонут, Господи! Да от такого рёва оглохнуть можно, с ума сойти слабонервному.
Димитрий на Красной площади, у Лобного места, с которого ещё так недавно оглашали всенародно его проклятие: «Анафема! Анафема! Анафема!» А теперь людское море стонет: «Многая лета! Многая!» Бедные, глупые люди!
Димитрий в Кремле — в Архангельском соборе у гробов своих прародителей, великих князей и царей московских... Он припадает к гробу Грозного... Трепет охватывает всех при одном воспоминании сухощавой, измождённой страстями фигуры, с лицом безумно-бешеного, в костюме юродивого...
— Батюшка! Батюшка! Ты покинул меня на изгнание и гонение... Но ты же и спас меня твоими отеческими молитвами.
И слёзы его льются на гроб Грозного. Как не пошевельнулись кости этого страшного царя, когда на его гроб капали слёзы, может быть, какого-нибудь проходимца, сочинённого Богданом Бельским и вымуштрованного иезуитами? Нет, не пошевельнулись.
А Богдан Бельский стоит бледный, растерянный, с безумно обращёнными на гроб Грозного глазами. Ух-ух! Что это? Ему кажется, что гроб Грозного шевелится... Шевелится... Земля ходит...
Бельский ухватился за что-то руками и в ужасе закрыл глаза...
— Свят-свят-свят, Господь Саваоф!
Но не вся Москва ликовала, встречая новоявленного царя. Не ликовала Ксения Годунова, томясь в своём мрачном одиночестве и силясь отогнать от себя светлые воспоминания детства, которые вызывали теперь в ней едкие страдания, и милые образы своего отрочества, когда перед её стыдливыми девическими глазами явился дацкой прынец Яганушка — платьице на нём атлас ал, шляпочка пуховая с кружевцом, чулочки шёлк ал, башмачки сафьян синь... А эти страшные образы, которые она вызвать не смеет в своей памяти, потому что образы эти — посиневший труп дорогого отца, удавленная мать, обезображенное смертью лицо брата любимого... Это — и прошедшее, и настоящее. А что в будущем? Боже мой! Лучше и не заглядывать в эту мрачную бездну.
Не ликует и Оринушка Телятевская... Молнией пробежало по её молодому небу — по душе — её молодое счастье, и этой же молнией расщепало её надежды, её сердце, всю её душу. Всё сожгла эта молния: и её счастье — Федю царевича, и их первый поцелуй, тот чертёж Российского государства, над которым они «нечаянно» поцеловались в первый раз... Нет, правда, чертёж этот не сожгла молния: он и до сих пор здесь, в Петербурге, но Оринушке легче ли было оттого, что через двести-триста лет учёные будут, рассматривать чертёж Феди как редкость?
Не ликуют... Да, много, много таких, которым не до ликования. Ведь несчастная земля так устроена, что как не свети на неё яркое солнце, всё же оно будет освещать только часть земной поверхности, и чем ярче освещается та часть земли, которая обращена к солнцу, темь мрачнее тень на противоположной стороне.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу