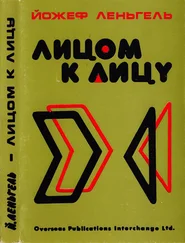Так и рубят: старый — молодую, молодой — старую. Однако же пожилой человек немного жалеет совсем еще юную березку-подростка, во всяком случае, пока не нанесет первый удар по стройной девственнице.
Молодой человек, тот все спешит, злится на костлявую, строптивую, крепкую еще дурнушку, чье шершавое тело дает зато много тепла; но едва совладает с нею, повалит, и все разом кончено, еще и ногой отпихнет от себя, куда подальше. Но когда томит жажда по березовому соку, тут и стар и млад сообща надрубают старое дерево. Ибо только из старого дерева обильно струится березовый сок.
Березовый сок да хлеб — вот и весь обед лесоруба. Хлеб-то черный, зато сок березовый чище всего на свете, его ведь даже взор человеческий не коснулся. Этот родившийся от удара топора источник — студеный и сладкий. От холодящего питья у лесоруба на какую-то минуту возникает желание разложить костер и обогреться. А только не пристало лесорубу у огня отогреваться. «Осенью зябнешь — дровишки пили, а если зимою, так ими топи», — приговаривает человек, который и весной-то работает в одиночку и в одиночестве, только для себя одного, сочинил немудреную эту присказку…
Торопиться вовсе не нужно, но и рассиживаться — тоже пустое дело. Тяжек труд лесоруба, но он вселяет в человека надежду и веру — и в самом-то деле, еще весна, а мы уж о будущей зиме заботу творим… Топор — вот что греет лесоруба, и он верит, что придет время и запылает в печке огонь, у которого можно обогреться, и запахнет березовым веником в жарко протопленной, с докрасна раскаленной каменкой, бане. Он верит, что одиночество его тоже не на веки вечные. Ему грезятся зимние вечера, когда можно вдосталь поразмыслить о жизни, которая бывает жесткой и суровой, как потемневший ствол старого дерева, и прекрасной, точно стройная юная березка…
3. Два поющих человека в лесу
Один голос хриплый, простуженный:
Мочи нет,
Душит снег!
Вьюга в грудь стрелой вошла,
Бродит смерть белым-бела.
Манит сонного в сугроб —
Снежный саван, снежный гроб.
Другой звонкий:
Мочи нет —
Блещет снег!
В снег зароюсь на ветру,
Снегом щеки разотру.
След звериный манит вдаль,
Снег шаманит, стелет шаль. [11] Пер. Н. Горской.
Перевод В. Ельцова-Васильева.
Из цикла «От начала и до конца»
Будто наяву вижу свою мать стоящей у накрытого стола. Перед тем как разрезать большущий каравай серого хлеба, она торопливо, стараясь, чтобы никто не заметил, кончиком ножа чертит знак креста на пепельной от муки нижней корке. Никто не знает — для чего, но и говорить про то сроду никто не заговаривает.
Серый у моей матери хлеб. Ржануха в нем, пшеничная мука да картошка — всегда точно в меру. Тесто замешивается спозаранку, совсем еще затемно, при свете лампы. Целую неделю хранит вкус и свежесть такой хлеб. И пекут его у нас дома в неделю раз.
…Вот она складывает хлеб на деревянное блюдо. Оно застлано чистой салфеткой с вышитой крестиком красной каймой.
Всяк берет себе хлеба вволю. Есть только одно-единственное, но строгое правило: что взято, то должно быть и съедено. Ни мать, ни отец терпеть не могли, чтоб после кого-то на столе хлебные корки да куски оставались. И хлеб у нас на помойку не выбросят. Скорее что другое, но хлеб — никогда. Бывало, по нечаянности обронит-кто на землю кусок, так его тут же надобно поднять, а поднявши — поцеловать. Так мать приучила. Съедать тот кусок вовсе не обязательно, довольно будет положить на край порожней тарелки. Хлеб этот цыпушкам да голубям доставался.
Еще вижу крупные жилистые руки отца, вижу, как пересыпает он с ладони на ладонь зерна золотисто-рыжей пшеницы. Сильные и нежные, суровые руки его в этот миг исполнены доброты.
Вижу руки хлеботорговца. Он тоже пересыпает пшеницу из ладони в ладонь. Пальцы у него нервные, тонкие; зернышки то и дело застревают между пальцем и насаженным на него увесистым обручальным кольцом из золота. Поговаривают, шибко богат он и сильно болен: рак желудка, и уж едва в состоянии есть.
Разглядываю торговца, схоронившись за широкой отцовской спиной. Но и тут до меня доходит зловонный запах из его рта. Он кричит, кипятится. Лицо его то землисто-серого, то багрового цвета.
Тихонько прокрадываюсь к широко распахнутым дверям амбара, куда по наклонному настилу из досок одна за другой въезжают подводы. Нанятые торговцем работники сгружают с них мешки, втаскивают в амбар и ссыпают зерно в кучи, которые растут и вширь и ввысь. Смотрю и думаю. И зачем ему столько хлеба, все эти горы, если он не может съесть даже одну махонькую подрумяненную пышку? Неужто ни кусочка? Сегодня утром у нас дома как раз про это говорили.
Читать дальше