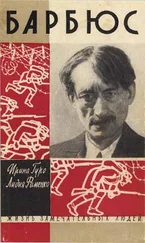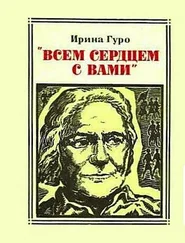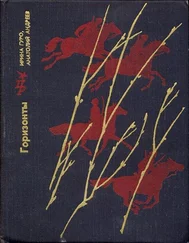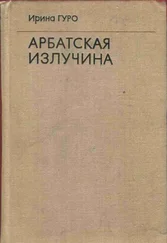Вагон смертников мотает на стыках рельсов, тяжелый махорочный дух кружит голову. Куда их везут, почему?.. Сколько времени они едут? Бородатое лицо нагибается над Курнатовским:
— Очнулся?
— Давно мы здесь? — Странно, он помнит только одну дату — десятое марта, суд…
— Четвертая неделя пошла…
Виктор Константинович оглядывает товарищей. Остальные тоже здесь, в поезде? Почему же вы отворачиваетесь? Почему осеняет себя широким крестом старый казак, пряча лицо?..
Почему же мы живы?.. Никто не может ответить на этот вопрос.
Мысли о павших товарищах не оставляли Виктора Константиновича, но сейчас острая боль ушла, и это было полное тихой, щемящей печали раздумье. Чаще всего — о Костюшко, об этой жизни, оборванной так рано, наполненной до краев любовью и ненавистью, мечтами, мудростью книг, красотою природы, счастьем борьбы, всем, всем, что положено на земле человеку и что многим, слишком многим достается по крохам, потому только, что большего они не хотят или не умеют добиться.
И теперь, когда Курнатовский думал о погибшем друге, все туманнее вставала перед ним коренастая фигура Антона с добрыми глазами за стеклами пенсне, все глуше звучал знакомый голос с знакомой интонацией решительности и задора.
И вместе с тем он видел Антона крупнее и ярче, чем в жизни, в каком-то новом и навеки оставшемся образе — в его бессмертии.
И хотя суровая ночь стояла кругом, и злее, чем когда-либо, преследовал и карал царизм своих врагов, и падали один за другим лучшие, все же по каким-то чертам, рассеянным вокруг, медленно накапливающимся, как световые точки, возникающие во мраке, множащиеся и сливающиеся в одно пламя, Курнатовский чувствовал близость перемен. Надежда на то, что еще будет жизнь, будут радости, не оставляла его.
Из мглы, которая заволакивает прошлое, выступает одна ночь.
Поезд остановился в степи. И в ту же минуту, как затих стук колес, в вагон ворвался конвой. Не вошел, как обычно, а ворвался. Нервно, спеша, офицер выкрикнул три фамилии.
Не успели названные отозваться, как солдаты кинулись к ним, стали толкать их к двери вагона.
Пожилой казак Артемий Чистухин схватил за руку солдата:
— Ты что, озверел? Дай людям проститься!
Солдат, опешив, посторонился.
— Прощайте, братцы, — сказал Артемий. — Наш черед смерть принять! Но и палачам недолго праздник праздновать.
— Прощайте, товарищи! — закричали кругом.
А трое, те, которых уводили, безмолвно поклонились низким поклоном на все стороны. Солдаты прикладами вытолкали их из вагона, замок на двери щелкнул. Несколько минут стояла тишина. Потом послышался нестройный залп и одиночные выстрелы…
И опять стук колес, словно отсчитывающих минуты, оставшиеся живым…
Утром поезд остановился у семафора, видимо, на подходе к большой станции. Что-то необычное готовилось за стенами вагона: бегали конвойные солдаты, какие-то списки передавали один другому офицеры.
У вагона появился новый конвой: в ладных полушубках, в новых меховых шапках, при сабле и пистолете. Из вагона вызывали по одному, выстроили на заковку.
И здесь даже самые бывалые притихли, ушли в себя: кому и довелось таскать кандалы, всякий раз становилось не по себе, — было в звоне цепей, в ощущении их тяжести четкое ощущение рабства.
…Он не помнит теперь ни дороги, по которой гнали их партию, ни остановок на этапах. Помнит только этапную избу, в которой он почему-то лежал на нарах совсем один. И тогда-то он услышал это: «Снят с этапа».
…Виктор Константинович не знал, где он, сколько времени он в этой палате. Но что-то ему подсказывало: уже давно. Непонятно почему, он был уверен, что за окном уже весна. Может быть, слабый солнечный луч или кусок чистого неба говорили об этом.
Он изучающе оглядел плохо оштукатуренные стены, дверь, выкрашенную мутно-белой краской, с такой же, как в тюрьме, форточкой, вырезанной в ней, с таким же «глазком».
Он лежал на железной больничной койке, ножками прикрепленной к полу. Боли он не чувствовал, только слабость.
Снаружи загремел засов, слышно было, как щелкнул на два оборота ключ. Ожидая тюремщика, осужденный закрыл глаза, чтобы сосредоточиться. Но вошел врач.
Невысокий, полный, лысоватый человек в белом халате выглядел как любой врач обычной больницы. Слуховая трубка торчала из кармана халата. Взгляд через очки был внимательным, даже озабоченным. Кроме того, в нем угадывалась какая-то нерешительность.
Все это сразу открылось напряженному взгляду Курнатовского и удивило его. Было во всей повадке тюремного врача что-то, резко отличавшее его от других врачей-тюремщиков. И, установив это очень точно, Виктор Константинович затруднился бы определить, что же именно создавало это впечатление. Когда врач заговорил, оно усилилось: выслушивая больного, задавая ему обычные вопросы, врач как будто прислушивался к чему-то другому и хотел спросить о другом. Он выглядел человеком, поглощенным какой-то трудной мыслью.
Читать дальше