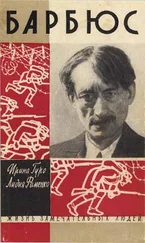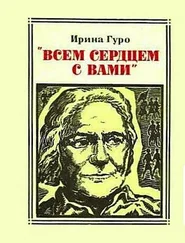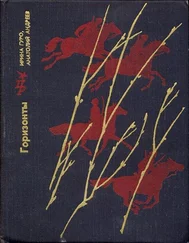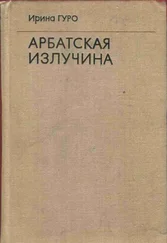Однажды в этапной избе Курнатовский лишился сознания. Этап гнали дальше.
«Приговоренный к вечной каторге, по замене смертной казни, лишенный прав и состояний, Виктор Курнатовский снят с этапа по болезни…» — полетели депеши по начальству.
«Снят с этапа» — эти слова то и дело врываются в его забытье. Каждый раз они звучат по-другому: иногда возвещая близость смерти, иногда тихо и неясно вселяя надежду.
Когда он воспринял эти слова просто: «Конвой сдал больного в тюрьму», — он понял, что выздоравливает.
С вернувшимся к нему интересом он осматривал свое новое жилище. Оно было ему знакомо: он не раз содержался в такой арестантской палате. Эта, пожалуй, еще неряшливее и теснее, чем те, которые он знал. И все же это была больничная палата, что означало: ни завтра, ни послезавтра тебя наверняка не погонят по морозу на этап.
Итак, главное установлено: он в арестантской больничной палате. Второе, что не обрадовало его, — он здесь один.
Давно ли? Тут он ничего не мог определить. Он попытался вспомнить, как сюда попал, но память не слушалась. Она повела его назад, подбрасывая ему обрывки прошлого. Перед глазами вставало то одно, то другое, звучали разные голоса… Да, он уже давно был болен. Он был болен с той погони, с того короткого боя, с той минуты, когда его подмял под себя конь, вздернутый на дыбы. И поэтому так путано, так смутно представляется ему все, что случилось потом.
«…По указу его императорского величества марта 10 дня 1906 года временный военный суд, под председательством командира 17-го Восточно-Сибирского стрелкового полка полковника Тишина, в закрытом судебном заседании…»
Голос председателя странно ломается, теперь он почти выкрикивает фамилии. Много фамилий… Курнатовский уже не слышит выкриков полковника, он только видит каждого из названных им. Сначала он видит их в общей камере Читинской тюрьмы…
Только тот, кто долгими ночами ловил звуки внешнего мира, угадывая течение жизни, от которой он отрешен; кто существовал как бы в стянутом накрепко мешке, набитом мыслями, воспоминаниями, надеждами; кто время от времени произносил что-то просто затем, чтобы собственный голос разрезал стойкую, изнуряющую тишину, — только тот может испытать радость, почти счастье, попав в среду людей, разделяющих твою участь, — пусть это будет даже в общей камере одной из самых страшных царевых темниц.
По пестроте населения общей камеры можно было судить, какие разные люди вошли в мир революции и при всех их индивидуальных и социальных различиях объединились в нем. Казаки и солдаты, отказавшиеся стрелять в восставших; рабочие, с оружием в руках защищавшие революцию; мужики, выносившие безоговорочные «приговоры» об отторжении кабинетских и монастырских земель, — все мятежное Забайкалье…
Теперь знакомые имена выкрикиваются резким голосом председателя суда. Одно за другим, одно за другим…
«…Фельдфебель штаба войск Забайкальской области Никита Шемякин… Писари того же штаба, нестроевые старшего разряда… Рядовой Читинской местной команды Григорий Ильин… Потомственный дворянин Виктор Курнатовский…»
Собственное имя ничем не выделяется для него среди остальных, как будто все они составляют одно слитное целое, крепче, чем кандалами, связанное общностью судьбы. И сейчас это будет ясно. Сейчас…
«…в том, что они все вместе… принадлежали к боевой социал-демократической революционной партии… призывали к вооруженному восстанию… с целью ниспровергнуть основными законами установленный образ правления… что и привели в исполнение, возмутив читинский гарнизон и местное население…»
Да, привели в исполнение. Это самое главное. Они совершили… Никто не может этого у них отнять. Они были победителями, они держали в своих руках власть… Ее вырвали у них из рук ненадолго. Трепещите! За нами идут другие, мы пробили им путь!
Имена, имена… Каждый внес свою лепту. И каждому — смерть! «…Лишить каждого из них всех прав состояния… и приговорить каждого из них к смертной казни через расстреляние…»
Все заволакивается снежной пеленой пурги, замирает в вое ветра, и вдруг из мутно-белого марева выплывают лица только что осужденных. Только сейчас это уже тюремный вагон. За окном — перерезанный решеткой, недобрый закат. Солнце садится в багровые, словно окровавленные, облака. Обнаженная мерзлая степь, открытая новому порыву ветра. Ничего живого. Крупные птицы исчезли за округлыми сопками, таятся в распадках, за каменными грядами. Даже воробьи улетели поближе к жилым местам, к теплым застрехам. Все замерло до весны на суровом этом берегу, зловеще освещенном огнями заката.
Читать дальше