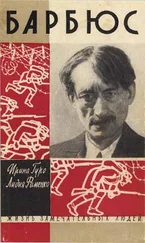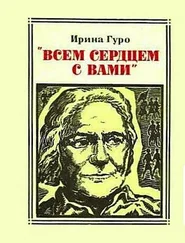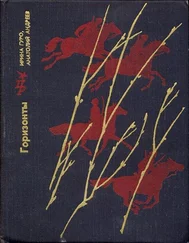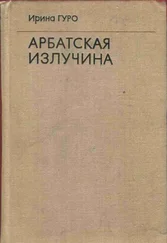— Тем хуже для него, — отрезал Курнатовский.
В наступившей тишине стал слышен перестук колес, тяжелое дыхание паровоза где-то рядом, на путях, и вдруг замелькали в стекле квадраты освещенных окон пролетающего мимо состава.
Казалось, сейчас странный разговор оборвется, все станет на свое место, они вернутся на свои места…
Курнатовский ждал, что поручик обратится к действительности, недописанный протокол допроса лежал перед ним. Но то, что хотел выяснить для себя этот человек, видимо, было для него важнее.
Он опять заговорил, сейчас как-то спокойнее, словно уверился в чем-то, что подозревал и ранее:
— Вы говорите, веления совести бывают сильнее сословных уз. Но ведь не каждому совесть подсказывает именно это: идти к рабочим и с ними вместе бороться за их права. Ведь есть много других способов делать добро: помогать бедным…
Он умолк, увидев недобрую усмешку на лице собеседника.
— Мне кажется, господин поручик, что вы задаете вопросы, на которые у вас уже имеется ответ: вряд ли вам, — Курнатовский дерзко-обнаженно выговорил это «вам», — помогут подачки бедным…
После этого он мог ожидать, что следователь одернет его или, по крайней мере, просто вернется к протоколу. Но поручик как будто боялся утратить случай открыть для себя то, что, может быть, уже никогда не откроется ему потом.
В путаных, нервных его вопросах проглядывало стремление найти в позиции Курнатовского какую-то трещину, в которую он мог бы юркнуть со своей жалкой, трусливой попыткой самооправдания.
— Если дело обстоит так, как вы говорите, почему же ничтожно мало людей нашего круга вступает в рабочее движение? Вы должны признать, что вы — из немногих? А разве привилегированные классы России не богаты людьми с чистой совестью?
Поручик словно был заинтересован в отвлеченном споре, но Курнатовский отчетливо видел, что вопрос идет о личной судьбе этого человека, и не хотел дать ему ни одного шанса смягчить его самоугрызения.
— Вступают в рабочее движение те, кто честно говорят себе: там правда и мы туда идем. А то, что так говорят немногие, это естественно: немногие переступают границы своего класса и соединяют свою судьбу с другим классом. А вы задумались над тем, в чем сила тех, кто пошел с рабочими? В чем причина их стойкости? А эту стойкость вам, наверное, не раз приходилось отмечать, — Курнатовский опять приблизил спор к тому, что близко касалось его собеседника. С удивительной отчетливостью он видел, как поручик отталкивает от себя его доводы. Но Виктор Константинович уже не выбирал выражений, все напористее утверждая: да нет же, нет вам выхода, как нет середины!
Он делал это, не скрывая своего презрения к собеседнику. Он вовсе не думал, что этот «кающийся каратель» всерьез может или даже захочет что-либо изменить в своей судьбе, и Курнатовский только стремился показать ему всю глубину его падения.
Странная мысль все больше укреплялась, — Виктор Константинович уверился, что поручик завидует ему. «Да ведь так и должно быть. Иначе не мог бы я переживать минуты такого подъема, такой радости жизни, как тогда в санях. Да и только ли тогда? Завидный наш удел: сознавать, что ты на стороне правых и отдал все за их победу. И все равно, все равно, что произойдет дальше, если у тебя такая уверенность, такое озарение, словно ты стоишь на вершине, а этот мятущийся, с нечистой совестью, никогда не взойдет даже на одну ступеньку по пути к недоступной ему высоте. Ах, это презренное племя пакостников, претендующих на «раздвоение личности», на благородство помыслов при мерзости деяний», — Курнатовскому захотелось выйти отсюда, вдруг показался ему далеким и желанным закуток с окном, забранным толстой решеткой, где ждал его Намсараев.
Виктор Константинович вздохнул облегченно, когда поезд загромыхал на стыках, приближаясь к станции.
Первый допрос остался незаконченным. Когда Курнатовского привели обратно, Намсараева в вагоне не оказалось. От конвойного солдата Курнатовский мог добиться только одного: спутника его перевели в общий арестантский вагон.
Близкие люди исчезали с его пути, и он ничего не знал об их дальнейшей судьбе.
Виктор Константинович остался один со своими мыслями и отвратительным привкусом только что происшедшего разговора, привкусом, который, он чувствовал, останется надолго.
Болезнь не подкрадывалась медленно, а налетала порывами, как ветер. Вдруг терялось представление о времени, в памяти зияли провалы, происходящее воспринималось кусками, разорванными, бессвязными.
Читать дальше