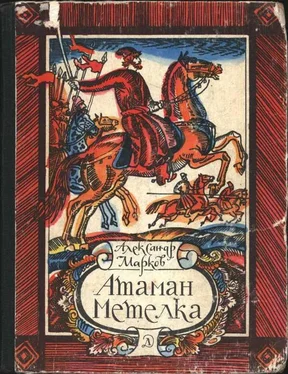Его послали соглядатаем по указанию губернатора. Из Астрахани до Шестовского бугра добирался с рыбаками на кусовой лодке. Говорил, что отпущен своим хозяином, нижегородским помещиком, на оброк. Показывал и отпускной билет. Боялся, как бы не показать по ошибке и другой лист, с памяткой от губернатора: «Долго ли были казаки в Богатом Култуке и у Гурьева-городка? Какая им была встреча? Где точно стояло, коим числом людей морское судно шхоут? Какой величины и как сильно вооружены пушками? Почему работными людьми сопротивления чинено не было? Почему по уезде Заметайлова разъездной команде да на брандвахты для скорейшей помощи знать не дают?!»
«Кто уж здесь заскорбит о скорейшей помощи — целовальник, а сопротивление чинить и вовсе некому. Ишь дорвались на дармовщину…» — зло думал Климов, перебирая в уме пункты памятки. Шумное застолье оглядывал украдкой, исподлобья. Сел спиной к лоцману Игнату Рыбакову, которого приметил давно. Из всех бывших в кабаке один он и мог признать его. Год назад провозил его команду до Бирючьей косы. Хотя вряд ли и помнит. Сколько за год-то люду перевозит — числа нет. Да и наряд таков — отец родной не признает. А все же береженого бог бережет.
И сидел, покусывая кончики тонких усов, которые отпустил нарочито для этой поездки. Бросал зоркие взгляды, все подмечал, и бессильная злоба мутила голову. Он видел, с каким почтением казаки и работные люди относились к атаману, как предупреждали каждое его движение, на лету схватывали его приказания. А ведь немудрящ, не чета Разину и Пугачеву. И было в его неловкой фигуре, коротких и крепких руках что-то простое, мужицкое, надежное. «Видно, этим и берет, — недобро думал поручик, — вот и лоцман под его дуду пляшет». Он заметил, как Заметайлов передал Игнату наполненную доверху чарку. Рыбаков выпил, утер ладонью усы и, смешно наморщив нос, запел низким, надтреснутым голосом:
Как во славном было городе, во Вастракани,
Появился там детинушка незнаем человек,
Как незнаемый детинушка, неведомый откуль…
Песню сменила балалайка. Тут, мелко постукивая каблуками по деревянному полу, вышел на пляс есаул-запорожец.
Взмахнув откидными рукавами кунтуша, он пустился в такую с выкрутами и топотом присядку, что и другие не удержались — будто неистовый вихрь втянул их в свою круговерть. После пляски вновь затянули песню, которую внезапно прервал крик:
— Опять табак в водку подмешан!
К стойке, опрокинув скамью, шел высокий неводчик. В руке дрожала скляница. Он бережно поставил ее на стойку и обратился к Заметайлову:
— Атаман, на прошлой неделе у нас в кабаке двое окочурились. Хозяин говорит, облились. А много ли на пятак обопьешься?
— Это поклеп… — прохрипел целовальник. — Брешешь ты спьяну, дьявол…
— Я брешу? — сощурил глаза ловец. — Пусть отведает батюшка-атаман и скажет свое слово. С этой водки на стену полезешь.
Заметайлов тяжело поднялся со скамьи и произнес рассудительно:
— Ну, выпью я, а как докажу правоту твою? На слово мне не каждый поверит. Нет ли у вас ремезиного гнезда?
В кабаке зашумели:
— Гнездо сюда!
— Чай, поди, у целовальника есть!
— Завсегда должон быть.
У целовальника гнезда не оказалось, хотя он и знал старый обычай — цедить подозрительную водку, наливая в ремезиное гнездо. Табачное зелье сразу оседало на гнезде-рукавичке желтым налетом.
Но вскоре гнездо принес со своего двора какой-то мужик. Держал для нужного случая. При беде гнездо поджигали и дымом окуривали больную скотину.
Атаман сам вылил водку из скляницы в мягкое белое гнездышко. Все смолкло. Лишь жаркое дыхание было слышно в сгрудившихся телах. Целовальник побледнел, голова его ушла в плечи, руки сами собой сотворяли крестное знамение. Он знал за собой грех и понимал, что ему несдобровать. Мужики загудели и потянулись к кабатчику. Атаман остановил их властным криком:
— Не троньте его! Мы лучше его деньжонки тронем. В походе пригодятся.
Бросились к ларю, окованному железом. Сбили замок. В кожаной кисе лежали деньги. Тут же, в ларе, битком набиты лисьи малахаи, зипуны, рукавицы, нательные рубахи… Все это было взято в залог или в обмен на водку. Многие, приметив свои вещи, тут же забирали их. Вдруг один мужичонка пронзительно закричал:
— Миколкина сорочица!
Он держал в руках белую рубаху, ворот которой был заляпан сгустками засохшей крови.
Целовальник прикрыл глаза и тихо застонал — понял: пощады не будет.
Читать дальше