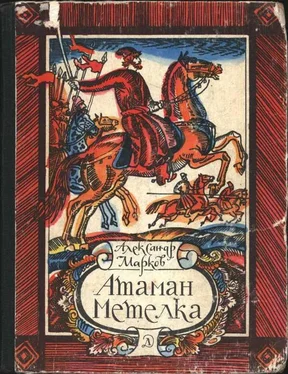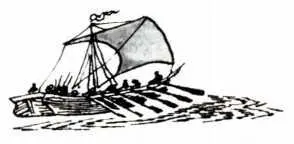«А вы кто будете, пане?» — спрашиваю и не кланяюсь даже.
«Дома батько Головатый?» — опять кричит Потемкин.
«Поскакал до генерал-прокурора».
«Ну, кланяйся, — сказал Потемкин, — передай, что приезжал благодарить за подарки, а особенно за коней, как за цугового, так и верхового».
А я ему:
«Да, гарные кони. Довезут, может, до сената наши бумаги».
Потемкин захохотал. После говорил мне Головатый, что ту мою думку Потемкин передал Екатерине II. Говорят, императрица решила Сечь разогнать. Когда смотрели казнь Пугачева, шепнул мне писарь: «Беда, братцы, вот так же усекут нашу неньку-Сечь». Когда поставили у нашего стана караул, я бежал. Знал, несдобровать мне за слова про сенат и бумаги. Потемкин — пан памятливый. Всем он верховодит, и оттого сидят все в потемках. Орлам крылья урезаны… Решил я к донским казакам бежать, да у Саратова услышал о Заметайле. Сказывали мне добрые люди, что в Каспий-море он ушел, к Турхменскому кряжу. Вот и подались многие сюда, многие и гибель нашли. И у меня кончились пули. На косах птичьи яйца искал… А некоторые и сейчас по пескам бродят… Где он, Заметайло, не слышали?
— Да вот он, Заметайло, — указал Петруха на атамана.
— Ты?! — Наум с любопытством воззрился на Заметайлова, потом протянул ему свою саблю. — Повелевай моей саблей, батько атаман.
— Я рад тебе, брат Наум. Будешь у нас есаулом.
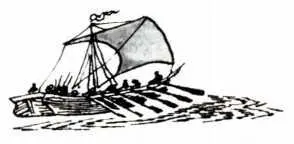

НА ШЕСТОВСКОМ БУГРЕ
Атаман приказал Тишке пальнуть три раза. С пушками старик обращался умело. Выбрал Тишка пушку, отлитую на олонецком заводе, раскатистую. Зарядил. Зыкнул первый выстрел. Ошалело заметались над камышами птичьи стаи. Снова грохнула пушка — саженный сомина с перепугу вымахнул из воды у самой лодки.
— Дай-ка я еще зелья подбавлю, — проговорил Тишка, засыпая в ствол порох. Потом долго забивал пыж.
— Стой, Тимофей Игнатьевич, дай мне пальнуть, — обратился Петруха к старику. — Ни разу не доводилось из пушки бухать.
— Возьми, сынок, — протянул старик запал, впервые называя Петруху сынком.
Петруха медленно поднес запал к затравке. Рявкнула пушка, вздыбилась на станке. Заволокло все дымом. Оглушенный старик не сразу понял, что пушку разорвало. В дымной волне увидел только, как тихо осел Петруха, качнулся и перевесился за борт. Его подхватили казаки. Левое ухо у парня было раскромсано, левого рукава кафтана как не бывало, голенище правого сапога распорото сверху донизу. По ноге, по руке, по лицу, совершенно спокойному, текла алая кровь. Его стали укладывать на дно лодки.
— Полегче, черти, — выругался атаман, — у него же все кишки наружу, не видите разве?
Тишка, поняв, что случилось непоправимое, закрыл лицо шапкой. Плечи его тряслись, хриплые звуки клокотали в горле. Впервые в жизни плакал старый бродяга.
К вечеру Петруху похоронили. На небольшом бугристом острове вырыли могилу. Опустили туда тело, обернутое в кусок чистого холста. Гроб сколотить было не из чего. На могильный холм положили ствол разорванной пушки. Из двух весел сделали деревянный крест.
Потихоньку разошлись. Занялись людьми, подобранными в барханах. На пушечные выстрелы сошлось человек десять, обессиленных, отощавших. Да еще троих подобрали в песках — идти не могли, лежали и ждали смерти.
На ухвостье острова задымили костры, а Тишка все сидел неподвижно у креста, обхватив руками голову. За эти часы состарился он еще более. Клочьями торчит борода, потух огонь в зелено-серых глазах, ввалилась широкая косматая грудь. Сидит неподвижно, как старый коршун. Комары облепили лицо и руки. Сидит, не дрогнет Тишка. Чайки, кулички вокруг носятся, чуть не на плечи садятся.
Подошел к старику атаман, сказал тихо:
— Пойдем, друг, все уже повечеряли.
Глухо ответил старик:
— Лучше бы мне здесь лечь… Отжил я свое… Я ведь рядом стоял, а вот ни одной царапины. А он и не охнул даже… Словно сына, я его полюбил… Нет детей-то у меня. А у тебя есть, атаман?
— Есть, сынишка Васятка, пятнадцатый год ему.
Никому не сказывал о сыне Заметайлов, а тут стал быстро, радостно говорить. Рассказал, как сам научил его читать и писать, как вместе ходили косить сено на станичных луговицах, как нарисовал Васятка на стене кухни коня. Углем нарисовал, а кажется, будто перебирает ногами тонконогий скакун. После часто на сыром песке прутом фигуры чертил. В диковинку это было Заметайлову и сладостно, что такой дар сыну в руки вложен. Сам купил Васятке бумаги и краски достал. Еще лучше дело пошло. Всех близких перенес на бумагу Васятка. Станичный атаман просил портрет императрицы сделать. И это получилось изрядно. Тогда повез Заметайлов сына в дальний монастырь, к иконописцам. Те взяли Васятку в учение. Шел тогда мальчишке десятый год.
Читать дальше