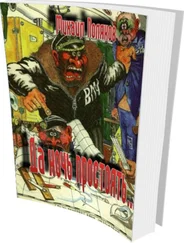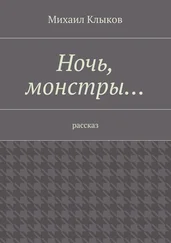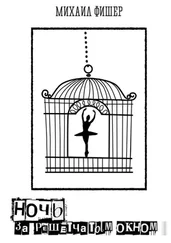— Погоди, Нефед... — Лука замахал руками. — Куда же ты?..
— Лося бьют в осень, — снова нахально рассмеялся Нефед, — а дурака завсегда.
— Христом богом, Нефедушка, скажи чего Леонов задумал?
Нефед хлестнул коня. Отъехал немного, обернулся:
— Нету боле твоего Леонова в Воскресенском. К белым убег, на Чикой. А мельницу городскому мужику продал, он там во всю шурует. Во как. Плакали твои капиталы!
И покатил дальше. Лука кинулся во двор — запрягать...
На другой день Нефед уехал в город, а вернулся и начались у него сборы. Скотину пораспродал, избу заколотил... Когда на двух подводах выезжал со двора, Лука не вытерпел, подошел.
— Нефед... куда ты, паря? Одного меня кидаешь?
Нефед свернул самокрутку, заговорил спокойно, будто с сочувствием.
— Покидаю, Лука Кузьмич. Ничего, тебе тут недолго маяться, скоро шею свернут. Подыхай один, счастливо тебе. А я маленько поживу на белом свете.
— Куда же ты?
— Земля широка, Лука Кузьмич. Мне много места не надо.
— Я ли тебе не верил, Нефед... Лучшим другом считал. А ты — вон что...
— Что ж делать, Лука Кузьмич... Ты меня тоже не шибко оберегал. Хотел перехватить мельницу, пущай Нефед погибает, посмеяться думал. Вышло, сам в дураках остался. — Нефед затянулся синим дымом. — Хочешь табачку? Первый сорт, девятая гряда от бани... Не хочешь? Ну, ладно... Поеду, путь не ближний. Вот, что скажу напоследок: Васька Коротких наверняка выдаст, у тебя грехов не мало. Повесить не повесят, теперь закону такого нету, чтобы казнить... А за решетку посадят. Знаешь, я тебя вижу, а ты меня нет... Может, когда передачку пришлю — табачку там, сухариков. Ты их в воде размачивай, зубы-то плохие..
Нефед взял вожжи.
— Ну, прощевай, брат. Заеду в капирацию, похохочем — мол, не устоял Нефед, прикрыл свою лавочку... Вот какая вышла для меня свободная торговля.
Лошади тронули, телеги заскрипели. Лука стоял у ворот, тупо глядел, как на высоком возу раскачивались узлы...
Антонида медленно поправлялась, но в голове у нее по-прежнему гудело, будто ухал тяжелый колокол. Когда закрывала глаза, чудилась высокая гора, поросшая мелконьким, ровненьким ельничком. От вершины вниз спускается прямая желтая дорожка, будто желоб, по которому в пасху катают яйца. За горой встает солнце, от него все вокруг в золотом сиянии... С вершины по желобку один за другим неторопливо скатываются веселые разноцветные шары, разбегаются по селу, которое под горой. Там их встречают нарядные девушки, хворостиной загоняют во дворы. Это они разводят по домам свое девичье счастье... «Сейчас и мое спустится... — с замирающим сердцем ожидает Антонида. — Сейчас...» Тут к ней скатывается с горы какой-то грязный, лохматый клубок, словно из немытой овечьей шерсти. Все смеются, она понуро идет во двор за своим косматым, неказистым счастьем...
Ее навещали Лукерья и Фрося. Как-то застали Антониду в слезах.
— Вот, — сердито пожаловалась гетка Катерина, которая все это время жила в поповском доме. — Ревет, заполошная... А чего ревет — и самой неведомо. Не ест, не пьет — слезы льет. Ну, перестань же, глядеть муторно.
Оказалось, Антонида проведала, что Маша Белова — та самая девушка...
— Как же она... могла со мной... — захлебывалась слезами Антонида. — Точно подруга... Ночей недосыпала, от смерти спасла...
— Докторша она. Ученье проходила. За тем и прислали к нам...
— Не то главное, что докторша... Добрый человек она, вот в чем дело... — теплым голосом возражала Антонида. — В ноги ей поклонюсь за доброту. Что ж она сегодня не забежала?
— Нету ее в селе, — ответила Лукерья. — С Ведеркиным в город укатила, вызвали. — Лукерья улыбнулась. — Теперя жди тятьку, отпустят, наверно.
Антонида широко открыла глаза, в них были испуг и радость, не поймешь, чего больше. Она все как-то не смела подумать, что отца должны освободить. Известно ведь: из тюрьмы дорога узка... А тут — на́ тебе... И верно, вот-вот прибудет, чего станут держать неповинного...
Как все это случится, как войдет в дом, взглянет, что скажет? Антонида поежилась, завернулась в платок: ей стало холодно. «Рассказывай, как попустилась совестью, — сурово скажет отец. — Как, дрянь такая, запихала меня в тюрьму? Ты же знала, что я безвинный... Отца родного променяла на прощелыгу... Убирайся из родительского дому на все четыре стороны. Будь ты проклята, окаянная... И ребенок твой не родня мне, даже поглядеть на него не пожелаю». Что она ответит? «Прости, папа, заблудилась, запуталась, не там счастье искала...» Отец не станет слушать, распахнет дверь: «Уходи, постылая...» Куда же она пойдет — с ребенком, на ночь глядючи? Хоть до утра дозволил бы подождать... «Уходи! — закричит отец. — Не дочь ты мне, подыхай со своим щенком под чужим забором». Никогда не думала, что отец такой жестокий... Простить не сможет, конечно, но хоть маленько должно быть жалости... А откуда ей быть, жалости? Он жил только для дочери, всего себя отдавал. Теперь она понимает, а то ведь ничего не видела, как слепая была. Она взяла на руки сына. «Не приласкает тебя дедушка, не расскажет сказочку...»
Читать дальше