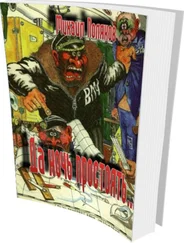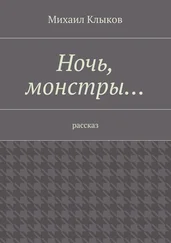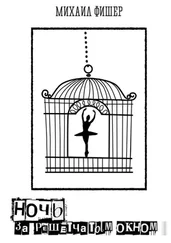В избе было тихо. Тикали ходики, всхлипывала Маша, которую била дрожь... Лукерья, Фрося, Катерина сидели молча, не зная что подумать, что сделать. На печке, уткнувшись лицом в подушку, беззвучно плакала Лелька.
Филипп Ведеркин забросил домашнее хозяйство, пропадал на постройке. Жена ругалась, он таращил на нее сердитые глаза, тряс бородой: «Что ты понимаешь, темная? Не для себя стараюсь, должность справляю... Опосля всем миром поклонитесь, спасибо скажете».
— Дурак, — отругивалась жена. — Пущай ревком брюхо надрывает, пошто тебе больше всех надо? Они, гляди, как: друг за дружку, и все на Петрушку.
— Слепая стала? — кричал в ответ Филипп. — Все стараются, удержу нет. И русские и буряты... Для детей нашенских.
Но разве бабу перетолкуешь, перекричишь? Филипп наскоро хлебал щи, бежал во двор, налаживал там упавший забор, накалывал дровишек и снова исчезал: ждали дела на постройке.
Спал Филипп плохо — не давала покоя забота о чужой беде, не мог придумать, как помочь Амвросию. Грызла дума, что арест попа подстроил Коротких, он — главный всему виновник... «Не стану молчать, — твердо решил он, наконец. — Расскажу Лушке, что знаю про оружие».
Филипп застал Лукерью дома. Вошел и с порога начал без всякого предисловия.
— Здравствуй, Лукерья Егоровна. Заявился по срочному делу, надо нам с тобой сыскать истинную правду, а то человека зазря загубим.
— Присаживайтесь, Филипп Тихоныч.
— Ладно, сяду, хотя долго находиться у тебя не могу, работы полно. Школу строить — не портками трясти. Так вот, слушай...
Филипп рассказал, как по ранней весне увидел ночью в окошко — Васька Коротких с какими-то мужиками толчется возле колокольни. И кони с телегами при них.
— Ночка была темная, они передо мной не то, чтобы как на ладошке, а маленько видно. Я вышел во двор — чего, думаю, творят? А самому спать охота. Нет, думаю, погляжу, выспаться времени хватит... Тут зачинают они что-то таскать в подвал. С телеги, понимаешь, и в подвал... Гляжу — винтовки. Ах, туды твою, думаю, вооружение. И Васька с ними пластается, таскает. Я ничего не упускаю... Ну потом Васька подвал, видно, запер, и за ручку с мужиками. Те на свои телеги и — прощевайте, Густые Сосны.
— Чего же вы молчали до сих пор, Филипп Тихоныч?
— А черт его, дурака, знает... — развел руками Филипп. — Думал, чужие винтовки на сохранение ему привезли что ли... И то надо бы сказать... Затмение нашло, вот и молчал...
Не скажешь ведь, что побоялся. Этому Ваське из винтовки не гусей стрелять по весне... Не для одного человека такое вооружение, на целую, видать, шайку. Вымолви супротив какое словечко, сам себя после не сыщешь... Что-то затевается, а какой будет конец — непонятно. Похоже что красные одолеют, но ведь всякое может стрястись...
— Где он, собака, ключ сыскал, вот что удивительно, — после тяжелого молчания вздохнул Ведеркин.
Ключ... Лукерья вспомнила, как при обыске Антонида сказала, что вместе с Василием взяла в подвале стекло для школы... Неужели Антонида знала про оружие?
— Васька в этом деле всему вина. А вы — попа за жабры: за решеткой аллилую поет.
Лукерье представилось, как Василий тогда сказал, что Амвросий припас оружие для мятежа. «Я тихо живу... Ни богу не грешен, ни людям...» Перед глазами стояла насмерть перепуганная фельдшерица Маша, в ушах звучал ее страшный рассказ.
— Васька подстроил, — твердо сказал Филипп. — Пономарь... С такой свинячей душой не звонить возле самого неба, а как тарбагану — в земле рыться. Видала, как попу напакостил?
— Да зачем же он?
Филипп удивился Лукерьиной недогадливости.
— Как — зачем? Надумал внедриться в поповский дом — и все. Попа за шкирку, на поповне женился, хоть она и того...
— Это его ребенок.
— Брось, Лушка, то-есть, Лукерья Егоровна... Ихнее супружество — не нашего ума дело, а попа вызволить из беды, это непременно. Теперь соображай, как и что, а я побегу, без меня там, на постройке-то, все дело стоит.
— Погодите, Филипп Тихоныч. — Лукерья положила сына в люльку. — Нельзя так: «соображай, а я побегу...» Надо было раньше сказать про оружие. Амвросий, может, в тюрьму не попал бы...
— Выходит, моя вина, что он за решеткой?
— И не знаю, как...
— Ты, Лушка, не бреши. — Филипп утер рукавом вспотевшее лицо. — Я и осерчать могу.
Лукерья села к столу.
— Серчать — простая штука, дядя Филипп. Ежели из-за всего станем серчать друг на друга — делу навредим. Нам надо за правду стоять. Выходит, все мы повинные, доверчивые очень... Тихий, мол, богобоязненный, без вреда живет... А оно вон чем обернулось.
Читать дальше