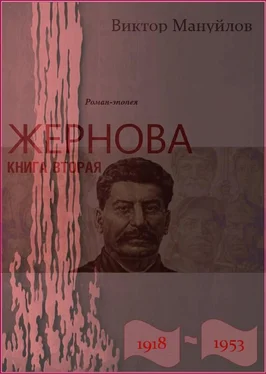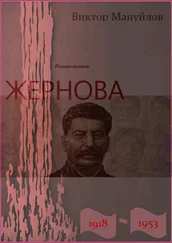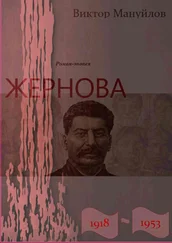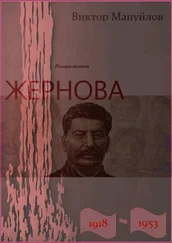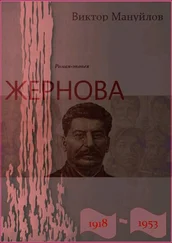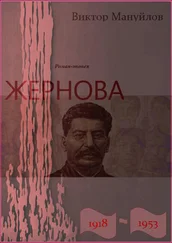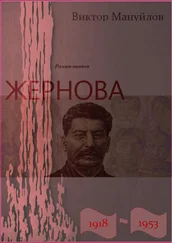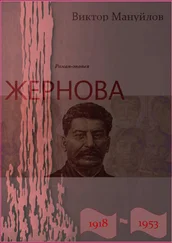— Хочешь пострелять?
— В каком смысле? — насторожилась Ирэн.
— В прямом, разумеется, — усмехнулась Дора. — Только что "тройка" приговорила к вышке двух бывших офицеров и одного семинариста. — Пойдем, позабавимся.
— Н-нет, извини: у меня дела.
— Ты просто трусишь, — презрительно процедила Дора сквозь сжатые зубы. — Ты забыла, как они поступили с твоим мужем? А может быть, ты забыла, что ты — еврейка? Забыла, что мы, евреи, должны отомстить наконец сполна за те унижения, которые выпали нашему народу в России? Отомстить за "черту оседлости", за еврейские погромы… Отомстить всем этим гоям, считавшим себя хозяевами жизни… Ты забыла, что бог советовал Моисею не оставлять в живых никого из тех народов, что населяют землю обетованную, ибо размножатся и станут костью в горле народа израилева, колючкой на теле его? Израильтяне не вняли этим советам, народы размножились и выгнали израильтян с их родины. Ты хочешь, чтобы здесь, в России, повторилось то же самое?
Глаза Доры, серовато-зеленые, обычно равнодушные, горели безумным огнем; говоря, она все ниже склонялась к сидящей за столом Ирэн, смотрела на нее с ненавистью, голос ее перешел в свистящий шепот:
— А хочешь, сейчас шлепну и тебя? Вот здесь, за этим столом, всажу тебе пулю прямо в лоб? Хочешь?
Ирэн сидела не шевелясь, парализованная не столько страхом, сколько изумлением от того, как на ее глазах нормальная с виду женщина превратилась в сумасшедшую фурию. Она не шевельнулась даже тогда, когда ей в лоб уперся холодный ствол нагана, и в ноздри ударил знакомый запах сгоревшего пороха.
Они были в комнате одни, никто не мог придти ей на помощь, смерть показалась такой близкой, такой возможной и… и такой нестрашной. Ирэн улыбнулась посеревшими губами, отвела револьвер рукой в сторону.
— Я видела, как расстреливают, — произнесла она хриплым от волнения голосом, постепенно приходя в себя и обретая уверенность. — Однако у меня никогда не возникало желания быть палачом… А если ты еще раз…
И вдруг — неожиданно для Доры — выхватила из-под колена браунинг и всадила две пули в висящую на противоположной стене карту Одессы, и обе пули вошли в нарисованный в уголке маяк — одна в другую.
Вбежали дежурные чекисты, с удивлением уставились на женщин. Дора расхохоталась и вышла.
Через полчаса из ворот чека выехала телега, накрытая брезентом, из-под которого торчали босые ноги. А еще через какое-то время во дворе послышалась песня Эсфири, которую пела Дора.
Игнат Дранько, начальник следственной бригады, из портовых грузчиков, пивший чай из глиняной кружки, посмотрел в окно, озаренное первыми лучами солнца, произнес, покачав стриженой головой:
— Дывысь, яка люта баба… Хлибом не корми, тильки дай пострелять у живого чоловика. Сдается мэни, у ей вже на пьятую сотню пишло. Ей рожать треба, а вона… — И, не договорив, подергал себя за седой ус.
Но Дора рожать не хотела, хотя путалась со всеми, кто попадался ей на пути. Она делала запрещенные в ту пору аборты по нескольку раз в год, но это никак не сказывалось на ее способности беременеть. Ее неразборчивость стала притчей во языцех. Однажды, говорят, она отдалась подследственному, а потом спокойно разрядила в него наган. В одесском чека ее не любили и почему-то боялись. И кончила она плохо: ее подстерегли возле дома и перерезали горло.
Вскоре после той стычки с Евлинской, в Одессу приехал Головиченко. Он приехал, чтобы выявить здесь некие связи неких контрреволюционеров, протянувшиеся сюда из Москвы, а из Одессы — за рубеж. Ирэн помогала ему эти связи устанавливать и распутывать. Ему понравилась ее работа, и он предложил ей поехать с ним в Москву. Она согласилась, сказав, что свободна, что здесь ее ничто и никто не держит. И это была правда.
И вдруг несколько строк в "Гудке" о кончине П. А. Задонова, замеченные ею совершенно случайно.
Ирэна Яковлевна тут же вообразила себе Алексея Петровича, такого убитого горем, таким почему-то одиноким, что не удержалась и позвонила.
Пока его подзывали к телефону, она слышала в трубке его голос, что-то кому-то доказывающий, голос совершенно нормальный, без всяких следов трагедии; потом этот голос стал приближаться, небольшая пауза — и в трубке прозвучало нетерпеливое:
— Да! Задонов слушает!
(Тут как раз и вошел Головиченко и встал возле ее стола).
Сердце у Ирэны Яковлевны оборвалось, — но не из-за Головиченко, конечно, — она провела языком по сухим губам, быстро совладала с собой и произнесла положенные в таких случаях слова настолько деревянным голосом, что, положив трубку, долго сидела как пришибленная, и в голове у нее молоточками стучало: "Ну, вот и всё! Вот и всё. И слава богу. И слава богу".
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу