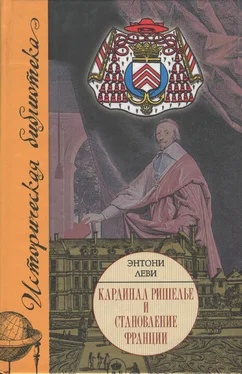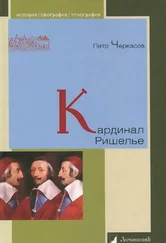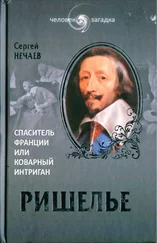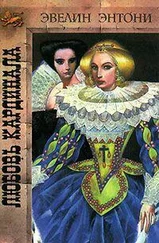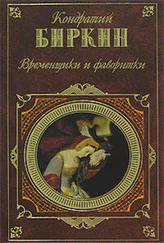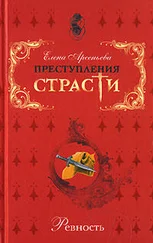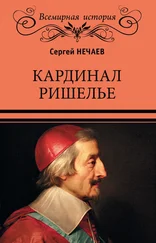См. Louis Battifol. Richelieu et femmes. Paris, 1931.
См.: Hugh Trevor-Roper. The Sieur de la Rivière // Renaissance Essays. London, 1985; J.H. Elliot. Richelieu l’homme // Richelieu et la culture. Ed. R. Mousnier. Paris, 1987.
Было четыре брата Бутийе, сыновей юриста Клода, которые работали на семейство Ришелье. Старший из четырех сыновей, также Клод, родившийся в 1581 г., последовательно исполнял обязанности советника Парижского парламента, секретаря Марии Медичи по рекомендации Ришелье, а с 1628 г. — государственного секретаря, прежде чем в 1632 г. стать, совместно с Бюльоном, суперинтендантом финансов (surintendanl des finances). О его назначении в королевский совет см.: Orest Ranum. Richelieu and the Councillors of Louis XIII. Oxford, 1963. P. 34. Один из братьев, Себастьен, был каноником, а затем деканом Люсонского капитула. Ришелье предоставил ему кафедру в Эре. Третий брат, Виктор, был последовательно епископом Булони и архиепископом Тура, первым капелланом брата короля, Гастона Орлеанского. Дени, также пользовавшийся покровительством Ришелье, стал одним из секретарей Марии Медичи, а затем — государственным советником. Сыном старшего из братьев — Клода — был Леон ле Бутийе, известный как граф де Шавиньи, министр и, как и его отец, государственный секретарь по иностранным делам. Ходили небылицы о том, что, рожденный в 1608 г., он был сыном Ришелье. Позже Ришелье тесно сотрудничал с ним, используя для того, чтобы оградиться от посетителей; кроме того, он фактически был агентом Ришелье при дворе, и одной из его задач было ежедневно докладывать кардиналу об отношении к нему короля. Он назвал своего сына Арманом в честь кардинала, но скомпрометировал себя после смерти Ришелье, приняв сторону Гастона Орлеанского, а не Мазарини. Он был блистательным, завистливым и надменным.
О Ле Мале см.: Maximin Deloche. La Maison de Richelieu. Paris, 1912, в особенности с. 103–114. Взаимная преданность Ришелье и его домочадцев достойна упоминания, принимая во внимание то, сколько было наговорено о деспотичном характере кардинала и невозможности работать на него.
Мы еще встретимся с подобной ситуацией. Епископство — высочайшая из трех степеней церковной иерархии, неотделимая, например, от власти посвящать в духовный сан священников. Вопрос о том, дает ли сан епископа право юрисдикции автоматически, и если да, то насколько большие, был и остается дискуссионным. Епископские полномочия обычно рассматривались как делегированная папой судебная власть, подтверждаемая папскими буллами, без которых власть епископов над епархией не имела законной силы. Епископам любой страны, имевшей, как Франция, конкордат или иное сходное финансовое соглашение с папой, для того чтобы пользоваться доходами от своих бенефициев, требовался также королевский мандат.
Анри Карре так передает слова Ришелье о решении принять Люсонскую кафедру: «Я на все согласен ради блага церкви и славы нашей семьи» (Henri Carré. La Jeunesse et la marche ou pouvoir de Richelieu, 1585–1624. Paris, 1944. P. 19).
Автор написанных на латыни биографий брата Армана Жана, Альфонса (1653), и самого Армада Жана (1656), историограф и автор сатирического в некоторых своих аспектах романа «Жеманница» (La Prétieuse).
Дюваль как богослов представляет серьезный интерес. Именно он идентифицировал «apex mentis» («вершину духа») с сердцем, создав религиозную терминологию, которую воспринял позже Паскаль через благочестивое сочинение Сен-Сирана «Новое сердце» (Le coeur nouveau). Для Франциска Сальского и Берюля «apex mentis» — «scintilla synteresis» мистиков Рейнской области — был крайней точкой (fine pointe) души, в которой происходят высочайшие мистические переживания. В новой антропологии Дюваля сердце стало вместилищем как знания, так и любви. О Дювале см. в особенности: Jean Dagens. Bérulle et les origins de la restauration catholique 1575–1611. Paris, 1952; P. Féret. La Faculté de théologie de Paris et ses docteurs les plus célèbres. 7 vols. Paris, 1900–1907. Vol. 4.
Монтень высмеивает доктрину любви Фичино в главе V третьей книги своих «Опытов» — «О стихах Вергилия». Наиболее очевидные связи между стоицизмом и скептицизмом немного позже, чем у Монтеня, проявляются у Шаррона в сочинении «О мудрости» (1601) и, с еще большей четкостью, в серии работ Юстуса Липсиуса и Гийома дю Вэра, несомненно давших толчок для выработки метода сомнения — отправного пункта философии Декарта. См.: А.Н.Т. Levi. The Theory of the Passions: 1585–1649. Oxford, 1964. Когда религиозные войны закончились, оптимистический неоплатонизм был очень быстро реабилитирован. Из трех томов «Нравственных посланий» (Epîtres morales) Оноре д’Юрфе первый, написанный в тюрьме в 1595 г., по общему признанию, ближе всего к философии неостоицизма; во втором, по большей части написанном в 1597 г., чувствуется умеренное влияние Фичино, третий же, впервые опубликованный в 1608 г., открыто неоплатонический. Провозглашение д’Юрфе связи между естественной эмоцией и добродетелью того, кто ее испытывает, идет от Фичино. В великолепном пасторальном романе «Астрея» д’Юрфе дословно приводит взятое им у Фичино определение любви.
Читать дальше