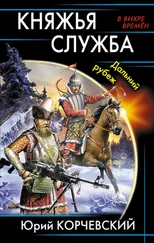Сокол зрил зловонные эшелоны с возвращающимися из лагерей заключенными, пожелавшими воевать с немцами, видел эти штрафные батальоны изможденных людей, бросающихся в атаку с такой же неистовой страстью и отвагой, как и небесные воины… Они все прощали, все вынесли и шли на смерть ради земли самой, а не из страха перед бесами, принесшими им столько зла и горя.
…Были войны, были смутные времена, грозившие расчленить и погубить навсегда эти пространства и этих людей, весь их непокорный род… Но видел сокол такую святую любовь этих маленьких людей к своей огромной Родине, созданной их великими предками, что не сомневался в их победе, как это было много-много раз. Они сливались воедино ратью, и все враги, все беды отступали, только укрепляя ее и расширяя границы…
Сокол зрил Серафима, шатко идущего через болото со своей клюкой и ветхой сумой на боку, в коей животворно и сладко пахла краюха ржаного хлеба. Та самая малость, чем сыт будет вовеки русский неприхотливый человек, отдающий себя до самоистязания работе, молитве, бою смертному, укреплению духа своего…
Утро следующего дня застало их посреди неубранного пшеничного поля. Вдоль него пролегал шлях, и внезапно появившиеся немецкие машины вынудили упасть в пшеницу, чтобы не быть замеченными. Колонна шла долго — и совсем рассвело. Можно было уползти назад в лес, но в нем тоже послышались близкие голоса немцев и удары топоров.
— Переднюем тут, будем спать по очереди, — распорядился Егор.
Высокая переспелая пшеница колыхалась над ними от ветра, шептала, роняя зерна. Николай жалостливо и любовно срывал колоски, тер их в руках и выдувал ость. Губами нежно собирал с ладони тугие зерна, медленно и сладостно жевал, зажмурив от наслаждения глаза. Сокрушенно выдохнул:
- Гос-спо-оди-и! Сколь хлеба зазря пропадает… Грех-то какой, а небось люди где-нибудь от голода мрут… Хоть оставайся тут и коси, молоти… Не могу глядеть на такое горе, сколь хлеба… И мы тут примяли круговину, теперь не поднять, надо хоть колоски оборвать, кутью сварим, — он зашелестел мятыми стеблями, обламывая колоски и складывая их в сумку от противогаза.
Как накосишься вдоволь, разбудишь меня, — шутливо проговорил Окаемов, — а мы пока поспим… Все одно немцам не достанется пшеница, ночью подожжем поле.
Да ты что! А вдруг наши наступят, иль партизаны.
— Не-е… я хлеб жечь не стану и вам не дозволю, пусть лучше враги съедят и подавятся, но палить хлеб грех великий, неотмывный, — зашипел возмущенно Николай, — да он и осыпается уж… трудов стоит много его собрать без потерь, мышам и птицам пропитание. Эх! Будь она проклята эта война… Некому хлебушек убрать. Беда.
Егор проснулся в полдень. Николай спал, положив под голову набитую колосьями противогазную сумку и обрушив полный котелок отборной пшеницы. Окаемов лежал на животе и внимательно следил за двумя спарившимися кузнечиками, медленно ползущими по стеблю пшеницы вверх. Глаза Ильи часто и влажно взмаргивали, он так увлекся созерцанием, что вздрогнул от шевеления Егора и недоуменно, откуда-то издалека вернулся на это поле, вернулся с неохотой и расстроенно.
— Видишь, — прошептал он и кивнул головой на кузнечиков, — так интересно-о… кавалер ее долго уговаривал, стрекотал, крылышки топорщил, усами шевелил… Ну прямо гусар. И вот чудо! Любовь — это бессмертие. Вечность. Все как у людей… Если человека любят, он и живет много, и болезни его обходят стороной, и дел сотворит несть числа за свою долгую и счастливую жизнь… Жизнь в нелюбви — это смерть! Нет ничего страшнее одиночества и ощущения, что ты никому не нужен… Но самое безутешное — потеря любимого человека. В крепких русских семьях зачастую один из супругов сразу же уходит вслед за любимым в горний мир и почитает за великое счастье оказаться опять с ним вместе.
Егор лежал навзничь и смотрел на белую чистоту облаков, молча слушал Окаемова и видел образ Арины. Она всколыхнула неясную и светлую печаль в его душе, горючую тоску о прожитой жизни, она верно сказала в напутствии, угадала все в нем: что чаще приходилось сталкиваться со злом, чем с добром, многим верил, а его предавали, искал тепла, а находил холод… Особенно больно ударила его изменой жена с тем ученым-лиходеем, убитым тунгусской стрелой от ловушки на крупного зверя. Все пошло прахом… Но более всего тоска и печаль охолонула о погибшей в бурунах перекатов Тимптона хрупкой и дорогой сердцу первой любви… Марико… Она всплыла в памяти омороком, и Егор в этот миг вдруг понял, что все эти прошлые годы тосковал о ней, помнил ее, видел во снах. Окаемов все говорил и говорил, потом затих и уснул, а Быков все смотрел снизу на тихий бег табунящихся к востоку облаков, печально провожая их за леса и долы, в невесть какие пространства безмерной России.
Читать дальше
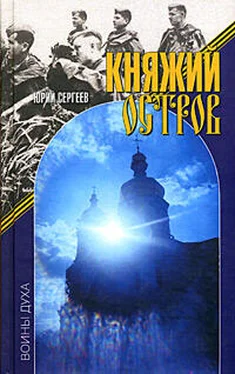

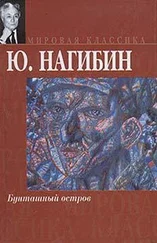






![Юрий Виноградов - Непокоренный остров [Документальная повесть]](/books/407045/yurij-vinogradov-nepokorennyj-ostrov-dokumentalna-thumb.webp)