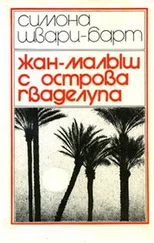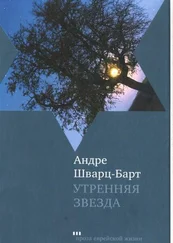Молодой человек из Галиции неопределенно улыбнулся.
— Еще как знаю! — взволнованно продолжал Биньямин.
— А раз так, — удивленно зашептал Янкель и, не спуская беспокойного взгляда с соседних кроватей, в отчаянии заломил руки под самым носом у Биньямина, — если вы это знаете, как же вы можете… ну, скажем, ходить по улице… Нет, в самом деле, вот, идете вы по улице или даже лежите, как, например, я сейчас… Вам не кажется, что вас что-то давит? Вы не чувствуете, как наваливается на вас какая-то тяжесть? И с каждым днем она увеличивается…
Биньямин даже подскочил от испуга: кто-то читает его мысли!
— Ну, конечно! — оживился он. — Вы очень точно говорите. Именно тяжесть. И… и даже шаг ускорить нельзя: фонари мешают…
— Какие фонари? При чем тут фонари?
— Ну, как же! — слегка усмехнулся Биньямин. — Раньше я ходил посреди тротуара, знаете, как немцы, военным шагом. Но на меня все смотрели, и я начал семенить поближе к домам. Все бы ничего, да вечно кто-нибудь из парадной выходит или фонарь торчит на дороге.
Янкелю понравился ответ Биньямина, но он не подал виду.
— Ну, и как же вы из этого выкручиваетесь?
— Представьте себе, — сказал Биньямин, переходя на шутливый тон собеседника, — да простит меня Бог, хожу осторожненько, бочком, бочком, семеню себе, как положено еврею.
— Как положено еврею! — расхохотался Янкель. — А люди? Или вы полагаете, что вам удастся не сталкиваться с людьми?
— Где там! Ой, люди, люди! От них-то и «тяжесть», о которой вы говорите. А мне еще ни разу не удавалось избавиться от нее… Тем более здесь. Даже когда я представляю себе, что сижу дома, там, в Польше, она и тогда давит меня. Люди здесь и правда ужасные. Хуже машин! Даже евреи… — Биньямин задумался. — Даже евреи давят меня. Ну, так что же, прикажете рвать на себе волосы?
Биньямин заметил, что на соседней кровати сидит человек, уткнувшись в раскрытую на коленях Библию, и не шевелится. Свеча, которую он держит возле виска, освещает морщинистое лицо и курчавую бороду. Будто страж ночной. Биньямин почувствовал, что он прислушивается к их разговору. Янкель перехватил взгляд Биньямина и презрительно бросил:
— Брат мой и соплеменник! Не обращайте внимания на сумасшедшего старика. Он воображает, будто занят размышлениями. Сыч он противный! Ночью то и дело заглядывает мне в лицо — хочет знать, сплю я или нет.
Человек даже не поднял глаз и лишь слегка вздрогнул, отчего свеча наклонилась, и неживой слезой на книгу упала капля воска.
— Ну, видите, все мы варимся в одном котле! — зло загоготал Янкель.
Его голос опять стал свистящим, а рука рассекла темный воздух и сорвала коричневое кашне, обмотанное вокруг шеи. Под кашне оказалась рана. Черная струйка крови запеклась на шее и на голой груди, покрытой легким пушком.
— Последний подарок Берлина! — засмеялся Янкель.
Огорченный Биньямин догадался, что Янкель борется с желанием что-то рассказать, что признание комом застряло у него в горле, и участливо спросил:
— Брат мой, пожалуйста, расскажите, что они с вами сделали…
Темноту пронзил ледяной смешок.
— Ну, знаете, вам признаваться — одно удовольствие: ничего не пропадает зря, все входит в ваше доброе сердце. Ох, сердце, сердце! А все почему? Потому что вы еврей, можно сказать, из наших. Ангел, а не еврей!
Заметив покорное выражение на лице Биньямина, Янкель смягчился и, согнувшись в три погибели, глухо сказал:
— Простите. На мой язык не надо сердиться. Вот уже два года, как ему тесно во рту: он не знает покоя, так и выворачивается, так и выворачивается.
Его сгорбленная спина неожиданно распрямилась, широко раскрытые глаза затуманились, а голос зазвучал по-детски растерянно:
— Подумать только! Два года! Даже не верится! Мне все кажется, что это случилось вчера. Каждое утро, когда я открываю глаза, мне кажется, что погром был вчера. Вам тоже так кажется, дорогой мой брат? Странно. Нет, в самом деле странно, что время остановилось. Понимаете, я все еще сижу в колодце. Понимаете, в том, куда я тогда спрятался. Вода мне по горло, а там наверху — круглый кусок голубого неба, он даже ни капельки не изменился. А потом стало тихо-тихо. Я и сейчас слышу, как кругом тихо. Вот, пожалуйста, — ни одного звука… Потому что, когда я вылез из колодца, у нас в местечке уже не осталось ни души. Синагоги тоже не было. Ничего уже не было. Кроме меня, конечно…
Янкель хитро подмигнул, словно в том и заключался необычайный фокус, который с ним проделали.
Читать дальше

![Андре Шварц-Барт - Последний из праведников [Le Dernier des Justes]](/books/30712/andre-shvarc-thumb.webp)