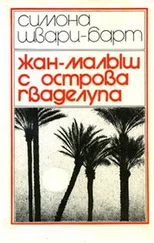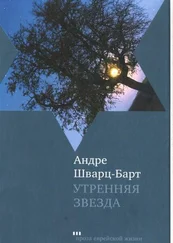Его речь вызвала бурное оживление. Оратор раскланялся на все стороны, спрыгнул со стола и стал пожимать тянувшиеся к нему руки. О жертве совсем уже забыли, как вдруг кто-то закричал:
— Смотрите, смотрите, он поранился!
Биньямин оторопело смотрел на свой палец, с которого текла кровь, да еще прямо на рулон светлой ткани.
В мастерской стало тихо.
— Это мы его ранили, — тихо сказал Лембке Давидович.
— Это мы, — послышался еще чей-то голос.
— Неужели мы уже все позабыли? — начал снова Лембке, глядя на Биньямина с таким удивлением, словно впервые открыл для себя его присутствие в мастерской.
Плотная фигура Лембке Давидовича, казалось, осела под тяжестью этого открытия. Длинные ресницы дрогнули, глаза округлились, и взгляд стал по-женски печальным и растерянным.
— Неужели мы и впрямь стали «немецкими господами»? — наконец, произнес он.
Его смущение тотчас же передалось остальным работникам господина Фламбойма. Кто-то взволнованно спросил:
— Кость хотя бы не повреждена?
Лембке подошел к Биньямину.
— Послушай! — закричал он, размахивая руками. — Скажи что-нибудь! Ну, обругай ты нас! Только не молчи! Да скажи же хоть слово!
Но Биньямин лишь задумчиво качал головой. Глаза у него блестели от еле сдерживаемых слез, и он не переставал сосать пораненный палец, что придавало ему печальный и в то же время комичный вид. Вместе с горьким привкусом собственной крови он уже вкушал сладкое чувство, подсказывавшее ему, что у этих людей навсегда отпала охота ранить его.
2
Биньямин стоял перед синагогой и, неистово вытирая ноги в польских башмаках о грязную и мокрую от снега тряпку, думал о том, что в этом подлом мире одной головой не обойтись.
А войдя внутрь под высокий темный свод, едва освещенный крохотными язычками свечей, сразу же почувствовал тоску при виде этих людей, выставленных на всеобщее обозрение. Вон старик под одеялом охает, вон молодожены прильнули друг к другу и застыли, пригвожденные любопытным взглядом бледной девчонки. А вон и мать девчонки — присела на корточки возле печи и как бы пытается удержать дрожащими руками языки пламени, которые так и норовят улизнуть по холодным как лед плитам. А какой шум поднимают дети! Биньямин не знает, то ли слух у него обострился, то ли их крики стали пронзительней от долгого заточения в этой огромной общей спальне без воздуха и света…
— Уже вернулись, господин Биньямин?
Биньямин остановился посреди «коридора». Он немедленно узнал этот голос, но сделал вид, будто всматривается в темноту, пытаясь понять, кто его окликнул.
— Вы и узнавать меня уже не хотите, дорогой господин?
Биньямин смутился.
— Простите, здесь темно, прямо хоть глаз выколи. Ну, Янкель, что хорошенького расскажете?
Страдальческое лицо молодого человека из Галиции выглянуло из тьмы.
— Ничего. Жив еще, — проговорило это лицо. Юношеская худоба только подчеркивала горькие складки вокруг нервного рта и длинного висячего носа с горбинкой. Из узких глаз исходил такой холод, что Биньямин едва выдержал их взгляд.
— Да входите, входите, честное слово, я за вход денег не беру, — сказал Янкель спокойно.
По необычному поведению юноши Биньямин тотчас же учуял, что в так называемой комнате «пахнет душевной болью», и, осторожно подняв ногу, аккуратно переступил меловой круг.
— Ну, Янкель, как жизнь идет?
— А она мне не идет: слишком велика на меня и в длину и в ширину. Или слишком мала, не знаю. Но вы, наверно, спрашиваете себя, с чего это Янкель вдруг заговорил со мной, целых два месяца не здоровался и вдруг — здрасьте вам. Не иначе как яичницы захотелось или кошерных…
— Нет, нет, — запротестовал Биньямин, — ничего такого у меня и в голове не было!
— Извините, — сказал Янкель, — я просто не знал, как подступиться. Уж такой у меня язык. Не язык, а нож во рту, сам чувствую. Стоит ему высунуться, как он тут же кого-нибудь ранит. Только, знаете, он не всегда был таким, мой язык…
— Правда?
— Правда-правда, — рассмеялся Янкель. — Когда-то язык у меня был шелковый, можете мне поверить! Когда-то… Да садитесь, садитесь. Ну, зачем на краешек! Располагайтесь поудобнее. Вот так. А теперь дайте посмотреть на вас. Полюбоваться, так сказать, новым человеком. Ах вот оно что! На вас еще шерстяная кепка! И все те же неуклюжие башмаки! И хасидский кафтан! Боже мой, вы еще и пейсы не остригли! Вы что же, до сих пор не знаете, что живете в Берлине?
— Это я не знаю? Вы что, шутите? — удивился Биньямин.
Читать дальше

![Андре Шварц-Барт - Последний из праведников [Le Dernier des Justes]](/books/30712/andre-shvarc-thumb.webp)