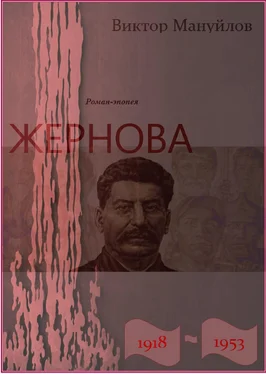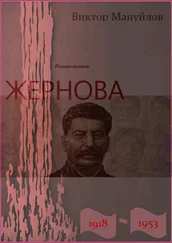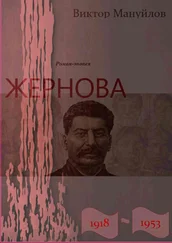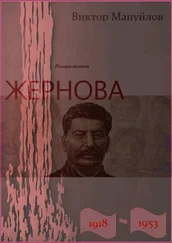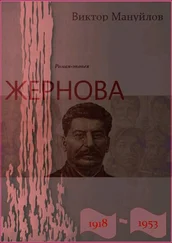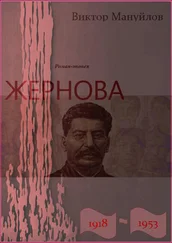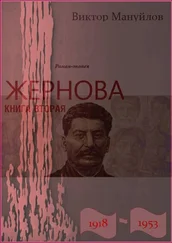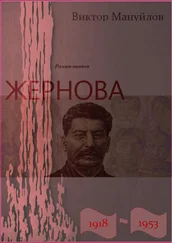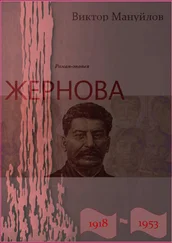— Завали дорогу на спуске к Студеничке: там деревья сами, почитай, валятся, только корни подрубить… Давно уж надо было их свалить, пока кого не придавило, а теперь в самый раз будет.
Но немецкие саперы на ночь все-таки ушли в Валуевичи, и Иван Полович со своими людьми почти готовый мост сжег и дорогу деревьями завалил тоже.
К удивлению Филиппа Мануйловича не все лужевцы согласились покидать свои дома и бежать в леса, где манной небесной не пахло.
— Чего бежать-то? — говорил, набычившись, Егор Ивашкевич, мужик темный и необщительный, хотя других претензий к нему у председателя колхоза не имелось: работал, как и все, не лучше и не хуже.
— Как это чего? — не понял Филипп. — Ворог же идет лютый, аль не слыхивал, что он в других местах вытворяет?
— Слыхать-то слыхал, а только все это враки. Я немца по Первой мировой помню: народ культурный, берут, конечное дело, себе на пропитание, так свои берут еще больше. А своих баб да ребятишек тащить в леса на погибель не дам. Тут переждем, чем кончится.
— А если начнет насильничать, тогда что? Тогда будет поздно локти кусать.
— Ничего, мы беспартийные, это тебе надо их бояться, а нас им трогать резону нету.
— Ну, смотри, Егорша, как бы потом не пожалеть. Наши скоро возвернутся, что им скажешь? Жил, мол, такая-этакая, рядом с германцами, потчевал их хлебом-солью. Так, что ли?
— Это как получится, председатель. А меня ты не неволь.
И еще несколько семей бежать в лес отказались.
В лесу, верстах в пяти от Луж, на широком взгорке, поросшем вековыми соснами, вырыли землянки, часть глубокого, но узкого оврага замостили сосновыми плахами и перекрыли навесом для скота и лошадей, по ночам, а иногда и днями, убирали хлеб со своих полей, рыли недозрелую картошку и свеклу, и ни о каком партизанском отряде не помышляли: и воевать некому, и оружия — две берданки да револьвер, а более всего — надежда, что Красная армия вот-вот соберется с силами и погонит немца назад. Но время шло, фронт уходил все дальше на восток, прибивались к лужевцам окруженцы и беглецы из концлагеря, что расположился на окраине Валуевичей, стали доходить слухи о партизанских отрядах, действующих на дорогах, сидеть и далее сложа руки не позволяли ни совесть, ни партийный долг, да и оружие стало появляться: пацаны шныряли по местам минувших боев, приносили винтовки, патроны, даже пулемет «максим» приволокли, и удержать их было невозможно. Тогда Филипп Васильевич разбил народ на четыре взвода — два хозяйственных из баб и стариков, два боевых — из мужиков, окруженцев и подростков, взводы разбил на пятерки и десятки, назначил старших, стал обучать ратному ремеслу с помощью приставших красноармейцев, а дальше дело само указало, как себя вести.
Для начала — уже в сентябре — устроили засаду на немецкий обоз, побили десятка полтора фрицев, разжились оружием и лошадьми, но немцы каким-то образом пронюхали, кто нападал и откуда, — не иначе кто-то из своих, оставшихся в деревне, донес, — и через пару дней каратели неожиданно появились недалеко от лагеря. Бой был недолгим и бестолковым, потому что ни опыта боев у отряда не было, ни умения такой бой организовать. Спасло знание леса да наличие лошадей, но не всех спасло, далеко не всех. Потерял в этом бою Филипп старшего из своих сыновей-подростков Володьку, старшего брата Андрея, племянника и сестру своей жены и еще полтора десятка односельчан. В том числе и Ивана Половича. Пришлось бежать, бросив почти всех коров и прочую живность, в самую глушь Монастырского леса, петлять, уходя от преследования, долго приходить в себя после учиненного немцами погрома.
Через несколько дней вернулся Филипп Васильевич с двумя десятками бойцов на старое место… Перед ними открылся обуглившийся лес, взорванные землянки, трупы коров и овец, валяющиеся по всему лагерю, трупы мужиков, женщин и подростков, привязанные к обуглившимся деревьям колючей проволокой, такие же обуглившиеся, как и сами деревья. И видно было, что одних привязали уже после смерти, а некоторых — еще живыми, перед этим срезали с иных кожу ремнями, выжигали звезды, отрезали уши и носы.
Стояли лужевцы и смотрели на своих односельчан и родственников — у кого сын обнаруживался, у кого мать или жена, у кого отец или брат. Смотрели и не верили глазам своим, что такое возможно, что содеяно это человеческими руками. Это ж до какой ненависти к ним, к мирным селянам, да на их же земле, до какого озверения надо было дойти человеку, чтобы сотворить подобное. И не один ведь этим занимался, а многие и многие.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу