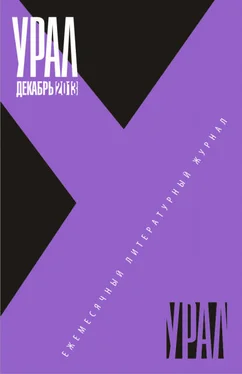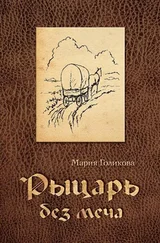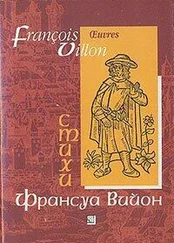Наконец вернулась мадам Дюран, представ перед Жаном-Мишелем живым свидетельством того, о чём писал Вийон и на что он, Жан-Мишель, прежде не обращал внимания. Мадам Дюран была уже не молода, но и не стара — а в том самом возрасте, когда красота уходит, оставляя по себе лишь память, тень, лёгкий след. В глазах, ещё недавно игривых, смеющихся и кокетливых, уже маячила тревога, которую Жан-Мишель нередко замечал у старух. Сама мадам Дюран наверняка осознавала эту тревогу и всячески отгоняла её, стараясь выглядеть моложе. Жан-Мишель подумал, что она делала это не столько из кокетства, сколько из желания быть во всеоружии перед лицом будущего, которое вот-вот подойдёт к ней совсем близко, посмотрит на неё в упор и уже не оставит ей выбора. Может, в своём слишком уж очевидном стремлении спрятаться от времени она и выглядела немного глупо, но всё равно Жану-Мишелю не хотелось сравнивать эту женщину со стёртой монетой, как это сделал Вийон в своей балладе. Не хотелось и делать саркастический вывод о том, что с уходом красоты для женщины уходит вся жизнь, оставляя лишь жалкое прозябание и тоску по минувшему… Жан-Мишель никогда так не думал — и очень сомневался, что Вийон на самом деле так думал. Нет, за этими словами мэтра Вийона скрывалось что-то другое, о чём он не сказал прямо, — какая-то история, может быть, рана или потеря, разбитое сердце и разбитые надежды…
Выслушав печальные новости про своего родственника, мадам Дюран пригласила Жана-Мишеля в дом отогреться и поесть. Он с радостью согласился, потому что совсем продрог, только из-за этого проворонил время — когда он распрощался с мадам Дюран и подошёл к воротам Сен-Мартен, они уже закрылись.
Жан-Мишель цыкнул от досады и остановился, раздумывая, что теперь делать. До утра в Париж было не попасть — значит, оставалось дожидаться рассвета на каком-нибудь постоялом дворе. Жан-Мишель посмотрел на тёмный силуэт Монфокона на фоне тусклого неба, подумал, что вечер будет долгим, а лишняя миля погоды не делает, — и решил прогуляться до Монфокона, пока не стемнело. Специально ехать на Монфокон он вряд ли когда-нибудь осмелился бы, но посмотреть на него поближе хотел, особенно после «Ballade des pendus». Хотел понять, разглядеть что-то смутное, что маячило между строк во многих стихах Вийона, касавшихся смерти.
Он довольно быстро миновал жилую часть предместья и вступил на дорогу, которая уводила прямо к виселице, когда ему вслед раздался крик:
— Эй, вы! Школяр, как вас там?
Он обернулся. Кричала хозяйка крайнего дома, стоявшая на крыльце с веником в руках, краснолицая, полная.
— Да, да, я вас зову! Куда же вы пошли? Париж-то вон там, — насмешливо заметила она и показала на Париж, который и без её слов было прекрасно видно за предместьем Сен-Мартен.
— Я знаю, я… — начал Жан-Мишель, но она не дала ему и рта раскрыть.
— А к воротам Тампль в другую сторону! — женщина решительно махнула рукой на юг. — Вы идёте прямо на Монфокон! Уверены, что вам туда надо?
— Да, уверен. Благодарю вас, мадам, я сам знаю, куда мне идти, — холодно ответил Жан-Мишель и продолжил путь.
— Вот чудила! А, эти школяры все с приветом! — донёсся до него её громкий голос. — Я всегда говорила, что ученье до добра не доведёт! От него все с ума сходят! Где это видано, чтобы нормальному человеку вздумалось идти в ту сторону?!
Жан-Мишель ускорил шаг. Через некоторое время её крики стихли, и последние дома предместья скрылись за густыми зарослями терновника и за голыми деревьями.
Вблизи Монфокон выглядел скорее печально, чем зловеще. Над безжизненной равниной свистел ветер, и огромная каменная виселица поднималась к низкому небу как символ всего временного, ошибочного и низменного. На массивных перекладинах висели не верёвки, а цепи; некоторые из них болтались в пустых проёмах между каменными колоннами и звякали, если вороны задевали их своими чёрными крыльями. На других висели полуистлевшие тела в грязных лохмотьях, покачиваясь от порывов ветра, именно такие, как их описал Вийон в своей балладе:
La pluye nous a buez et lavez
Et le soleil dessechez et noircis;
Pies, corbeaulx nous ont les yeux cavez… [15] Дождь нас моет и стирает, И солнце высушивает и чернит; Сороки и вороны выклёвывают нам глаза…
Вокруг не было ни души — только вороны, без устали кружившие над виселицей, несмотря на сумерки.
Жан-Мишель перекрестился, прочитал «Pater noster» [16] «Отче наш» ( лат .).
и подумал про Вийона. Жан-Мишель знал много разных произведений о смерти — на их фоне «Ballade des pendus» чернела, словно эта каменная виселица на фоне бесцветных окрестностей. Строки Вийона были искренними, как слёзы, подступающие к горлу, в них сквозило что-то простое и грубое, как верёвка, как безжизненное тело, как крики воронья… А ещё — что точно заметил Анри — в этой балладе было много страха. Только не возвышенного поэтического преклонения перед величием смерти, высказанного красивыми рифмами, красивыми словами. Нет, это был безыскусный человеческий ужас. От него хотелось поёжиться, как от зимнего ветра.
Читать дальше