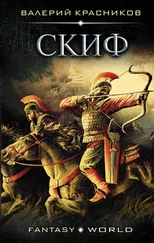Десятилетиями сманивали, развращали трусливых, подленьких царишек: Антиох, Дейотар, Никомед, Махар — да разве можно запомнить все эти пакостные клички! Они сливались для старого кочевника в одно омерзительное стоглазое, стоустое месиво. И эта гидра копошилась на земле, жадно хватала из рук победителей подачки, трепетно следила за каждым мановением волчьей лапы.
Уничтожить гадину! Сжечь дотла их столицу, как сделали волки с Карфагеном!
Митридат внезапно остановился. Его мысли всегда привлекала таинственная и скорбная судьба Ганнибала. Лучший стратег подлунного мира, может быть, более мужественный и мудрый, чем сам Македонец, — и побежден, побежден!
Таинственные гигантские тени встают над заснеженными вершинами. Тяжелый топот падает в расщелины, превращаясь в неясный устрашающий гул. Оползень с гор? Скалы сдвинулись? Слоны, дерзкие воины Ганнибала идут через Альпы. Ганнибал спешит растоптать Рим, сулит свободу племенам Италии. А они?.. Они не захотели ее!
Царь шагнул к узкой амбразуре. Луна скрылась. На темном застывшем небе мелким пунктиром прорезывались озябшие звезды. Белели вдали очертания Арарата, похожие на сдвоенные слоновьи головы.
Не захотели италики свободы из рук иноземца, отказались от щедрых даров великого полководца! Остались верны своей кровной, вспаханной, ухоженной отцами и дедами земле.
А он, Митридат? Он тоже всем сулил свободу. Один из всех владык Востока старый Понтиец любил и чтил тебя, мать-Азия! Он тоже обещал всем свободу. Он знал, что, спалив Коракесион, доберутся волки и до Синопы, и до Пантикапея. Знал, что лишь дружным, единым усилием всех народов и племен можно опрокинуть крепнущую с каждым годом державу квиритов. Никто, никто из тех, кому боги доверили судьбы царств азийских, не постиг необходимости единения. И единения не было. Рабы, предатели, женоподобные евнухи! Ни закона! Ни справедливости! Ни верности! О горе, горе! За что боги так безжалостны к Митридату Евпатору?
Нет, не были боги безжалостны. Они послали ему на пороге седой старости утешение и опору — отважного Пергамца. Какое ему было дело, был ли то чудом спасенный царевич или избранный богами пастух? Аридем был верен, бился до конца И в час мучительной казни, наверное, клял предавшего его Понтийца так же как Митридат клянет сейчас предавших его!
О горе! Горе! Как ослепила тогда старого царя насмешливая Клио! Он, он сам предал единственного, кто был верен, был молод, был могуч!
Пергамец нес в века великий замысел. Гипсикратия что?
Влюбленная девочка! Артаваз — дитя, мечтатель, поэт, ему греческие стихи дороже царственных дел. А Пергамец был муж, уже цветущий годами и державным разумом.
Он знал то, что поверженный Митридат постиг лишь ценой кровавых горестей, ценой великих скорбей, — он знал, за что радостно и мужественно отдают жизнь люди. Не рабы, нет, друзья-воины, живущие единой мечтой со своим вождем, — лишь они несокрушимы!
Митридат потряс сжатыми кулаками, проклиная богов, ослепивших его в тот миг, когда судьба и Рима и Востока уже лежала на весах Клио. О, будь проклята его слепота! Слепота человека, привыкшего к обманам! Будь прокляты те, кто с младенчества отнял у Митридата Евпатора веру в честь мужа, в доблесть воина, в сердце человеческое! Разве ж не достойней стократ править простыми, открытыми детьми полей, чем быть царем над миром лжи и коварства, над миром змей и ехидн!
Митридат подошел к затухающему очагу.
— Сидя спишь? — коснулся рукой плеча Филиппа и, не дожидаясь ответа, круто повернулся и вновь безмолвно зашагал из угла в угол.
Филипп, проводив царя взглядом, бесшумно подбросил в очаг связки хвороста. Долго смотрел в разгорающееся пламя — вздохнул: одни боги ведают, чем кончится этот плен. Может быть, над ним, Филиппом Агеноридом, исполнится старинное проклятие: «Да умрешь ты последним в роде». Все, кого он любил, мертвы: мать, Армелай, Аридем, Люций, Фабиола и его дитя в ней, ни разу не виденное, еще не рожденное, его плоть и кровь, которую во чреве матери бросили на растерзание диким зверям.
— Все мертвы, все… — глухо простонал он, роняя в колени голову.
Снежные бури замели перевал. Начальник армянской стражи велел Гипсикратии печь меньше лепешек. Кто знает, когда караван из долины привезет муку?
Гипсикратия скрыла от царя горькую истину. Ограничить державного пленника в пище, смущать его дух житейскими заботами было бы слишком жестоко, но она и Филипп должны помнить: мука в горной крепости на исходе.
Читать дальше
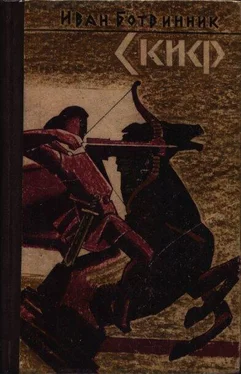







![Валерий Красников - Скиф [litres]](/books/422967/valerij-krasnikov-skif-litres-thumb.webp)