А сам ли лучше? Такую землю проглядел при составлении маршрута?
Паллас не мог объяснить причину беспокойства, которое все чаще охватывало его.
Их нередко нагоняли колонны ссыльных. Деревенские мужики и бабы бросали арестантам кто кусок хлеба, кто яблоко, кто вареный бурак. В такие минуты места себе не находил. Гонят их, гонят. За тысячи верст, под конвоем. Без всякой надежды вернуться домой, увидеть оставленные семьи.
«Экспедиция — счастье мое», — записал он в тетради. Но чем глубже уходил на Восток, тем острее недоумение и боль пронзали душу.
Россия, еще недавно такая загадочная страна, становилась Палласу ближе и роднее.
Отец еще в Берлине спрашивал: когда ждать обратно?
Вспоминая об этом, Паллас лишь улыбался. Тут он нужен! А какова польза от экспедиции — покажет время. И он писал в тетради: «Насколько ревностно я стараюсь наблюдать, настолько же ревностно держусь истины, не правя и не изменяя ничего. Ибо открыть что-либо великое или полезное совсем не во власти натуралиста. Многие вещи, которые теперь могут показаться незначительными, со временем у наших потомков могут приобрести большее значение».
Невежество топко, как болото. По приезде в Санкт-Петербург он узнал поразившую его историю. Одному астроному воспретили держать речь, в которой утвердительно решался вопрос — вертится земля или нет? Без разрешения начальства не смели опубликовать сочинение Фонтенеля о множестве миров. Одному начальству ведомо, сколько в мироздании должно быть миров!
Обо всем этом Палласу рассказал Протасов.
— Грустно, Алексей Протасьевич! — сокрушался Паллас.
Именно в те дни выписанный из Англии доктор Димсдаль сделал императрице и наследнику — впервые в России! — прививку от оспы. Прививался оспенный яд, взятый от больного ребенка. Так побеждалась страшная хвороба. Так был, как писали, свершен «беспримерный подвиг».
— И пусть ваша экспедиция, — воскликнул добрейший Протасов, — явится для России подвигом. Привьем нашей матушке-земле оспенный яд выздоровления!
Протасов, как и Паллас, свято верил в натуральные изыскания.
Безвременно, думал Паллас, почил великий Ломоносов. Вот кто могуче вращал неподатливое колесо российской науки. И Паллас в такие минуты истово возвращался к своим ученым занятиям. Горькие мысли оставляли его. Только естественному признанию вещей дано праздновать победу над невежеством, корыстью, жестокостью. То был символ его веры. Пусть экспедиция впишет лишь несколько строк в книгу российской науки — и то польза!
Может быть, и безосновательно осерчал он на молодых своих помощников. Да уж больно задела легкость, с какой они судили о деле, которое показалось Палласу важным до чрезвычайности.
2
— Дядь Ксень, а сплоховал ведь я перед Палласом. Может, повиниться? А то будет полагать: распоследний я трус.
— Да об чем ты?
— Подумает, что людоедов боюсь.
— А как же не бояться их?
— Может, и нет их вовсе?
— А самоеды? Слух сам не рождается. Слышал я еще в молодости: истинно в Югре обитают самоеды-людоеды. Нет для них ничего слаще человечинки, кровь ею греют.
— Сам пугаешься, других пугаешь.
— А ты не кидайся на испуг, как на приманку. Я, может, себя проверяю: боюсь ай не боюсь? Пощекочешь душу — успокоишься.
— Мне душу щекотать не надо, — сказал Вася. — Пойти повиниться? Показать, не трусливого десятку?
— Этого, крестник, показывать не надо. Ежели трус — оно в деле всегда обнаружится. А ежели не трус — тем же манером.
— Каким еще манером?
— А таким, чтоб все по жизни шло. Вот ежели я не знаю ничего про Югру, так и сказал: «Господь знает». Что ж, теперь виниться идти? Бери меня, какой есть.
3
Обоз путешественников тянулся вдоль редколесья по узкой колее.
Солнце пряталось за белым облаком, похожим на полотенце; обтершись, выглядывало в полглаза из-за розовеющего края.
Вася прислушивался к скрипу колес. Заднее колесо потренькивало, как пеночка.
Кусты рябины стеной стояли вдоль дороги. Красные гроздья нависли над телегой. Зуев набрал полную жменю ягод, швырнул в егерей. Они дулись в карты. Наотмашь били по голому пузу Ерофеева. Тот покрякивал: «Полегче, братцы…» Сглотнул несколько ягодок, мигнул Васе. Доволен был жизнью. Днями подошел к Зуеву, протянул ладонь:
— Ножик тебе выточил, бери. — Помялся. — Не серчаешь?
— За что?
— В сарае-то я как гневался.
— Я зла не помню.
— Как будет кузня, я тебе кинжал откую, с насечкой.
Читать дальше

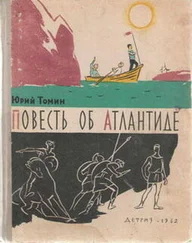







![Юрий Томин - Повесть об Атлантиде [с иллюстрациями]](/books/428044/yurij-tomin-povest-ob-atlantide-s-illyustraciyami-thumb.webp)
