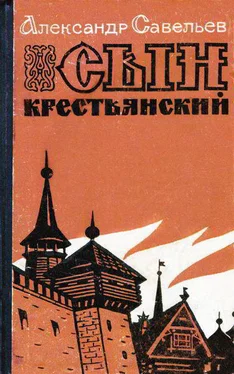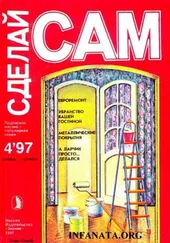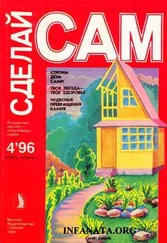— Ишь какая ты скорая! — с удивлением и невольным уважением к ней ответил Овчаров. Потом, видать, загорелся: — Ладно, будет по-твоему. Дело сказываешь. Заутра тронемся!
Атаман отправил Варвару в стряпущую. Там она у стряпки Федосьи, пожилой, кроткой женщины, со скорбным выражением лица, и переночевала. Перед сном Федосья рассказала ей, как Федосьина мужа в Москве запытали, в Земском приказе. Долго она горевала, а за ней и Варвара всплакнула; потом со злобой воскликнула:
— Подожди, Федосьюшка! Отольются им, катам, наши слезы!
Дорога из Москвы в Троице-Сергиевскую лавру… Разгорается утренняя заря, золотит облачка. Еще прохладно, но день обещает быть жарким. Кругом бескрайние леса. Они подступают к деревне, расположенной по обе стороны дороги.
В деревне со скрипом отворяются ворота, калитки. Бабы выгоняют на пастьбу скотину. Поднимая пыль, она бредет, а сзади шествует молодой пастух. Колпак сдвинут на затылок, лицо сосредоточенно. Длинный кнут щелкает по спинам скота. Потом волочится за пастухом, когда тот играет на рожке. Наивная мелодия звонко разносится и пропадает в лесах…
Из одной избы, провожаемые прощальными возгласами хозяйки, вышли два человека. За спинами котомки, в руках — батожки. Один из них, высокий старик, сановитый, важный, в добротной одежде, говорит:
— Давай, Вася, еще раз прочтем грамоту подметную, что в избе нашли.
Старик внимательно озирается, убеждается, что вблизи нет никого, вытаскивает из-за пазухи одну из «прелестных грамот» Болотникова. Он бегло просматривает ее. Видать, не раз уже читана. Хочет положить снова в боковой карман.
Вася, худощавый, стройный паренек лет шестнадцати, с задумчивым бледным лицом, удерживает старика за руку. Тоже сторожко озирается.
— Дядя Мирон, не лучше ли нам приладить грамоту к тыну, али вон к тому кусту, чтоб люди чли…
— Нет, Вася, лучше к Троице-Сергию ее снесть. У лавры приладим; незаметно, в темноте. А утром почитают. Там народу, чай, поболе соберется, нежели у твоего куста, — улыбается старик.
— Вот это дело! — басовито, ломающимся отроческим голосом, одобряет паренек.
Старик, однако, усомнился в правоте своих слов.
— А вот и не дело! Грамоты эти не на печатном дворе царском тиснуты. Рукописные. Каждую грамоту беречь надо. А у лавры много ли народу ее прочтет? Тотчас сорвут истцы да царевы дозорщики и изничтожат. Да людей похватают. Нет, надо верному человеку передать, чтобы по рукам шла.
Вася поглядел на старика любящим взором.
— Как ты все мудро рассудил, дядя Мирон!
— Идем, Вася! Поспешать надо, чтобы к вечеру в лавру прийти!
Тронулись навстречу заре. Наивные большие серые глаза паренька сияли от радости:
— Глянь, дядя Мирон, как все кругом веселит. Зорька играет… Хорошо!.. Вот это бы все перенести на холст!
Старик улыбнулся, и суровое лицо его подобрело, морщинки лучиками побежали у переносицы.
— Верно, Вася, сказываешь! Красота несказанная! Дай срок, станешь на холст переносить. Кроме икон, и небожественное писать будешь. А ныне тем занимайся, что положено тебе, ученику: вапы [44] Вапа — краска.
растирай, подрамники готовь.
Лицо Васи сделалось тоскливым. Он отмахнулся рукой.
Старик опять улыбнулся и произнес:
— Знаю, знаю, такого ученья не любишь! Ничего, стерпится — слюбится.
Паренек вдруг с криком метнулся в сторону от дороги. Старик с любопытством наблюдал за ним. Тот с восторгом приволок в своей шапке ежика. Сели на обочине дороги и глядели в ожидании. Ежик долго лежал, свернувшись клубком, потом выпрямился, сверкнул бусинками-глазками, тихо захрюкал и ринулся в траву под хохот Васи. Пошли дальше.
Старик философствовал:
— Всякая тварь земная жизни да миру рада, а люди вот грызутся.
Юноша, исподлобья глядя на старика, с таинственным видом спросил:
— Дядя Мирон, а что ты про Болотникова ведаешь?
Старик, хотя кругом людей и не было, все-таки оглянулся, потом ответил:
— Великий человек он! За бедных стоит. А ты ешь пирог с грибами да держи язык за зубами. Так-то!
— Знаю, дядя Мирон! Истцы и ко мне ласковы не будут, ежели что.
Далее шли некоторое время молча. Паренек думал о только что слышанном. Старик возобновил разговор:
— Ты, Вася, когда вапы на яичном желтке в черепках трешь, делай это дольше да лучше, а то у тебя крошки остаются. На века вапы готовятся, а ты шалды балды да кое-как. Нельзя так!
Сконфуженный паренек стал оправдываться.
— Скоро и тебе давать стану кленовые да липовые доски стерляжьим клеем проклеивать, сушить, холстину мягкую на их натягивать. Приглядываешься ты старательно, как мы иконописью занимаемся. Хвалю за это!
Читать дальше