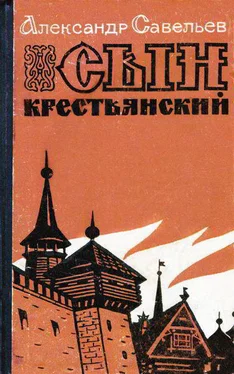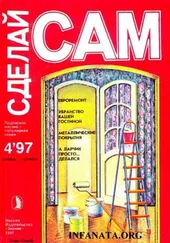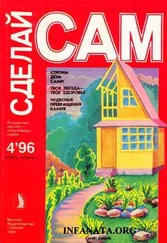Иконописец продолжал:
— Ведомо: на Руси училищ много, и не токмо в первопрестольной, но и по другим местам…
Вася вначале внимательно слушал разговор взрослых. Наскучило это ему, ушел к речке, стал бросать по воде плоские камешки, считал, сколько даст камешек кругов, прежде чем утонет. Очень довольный, он увидел издали, как старик попрощался с черным дьяконом.
Мирон Калиныч имел вид какой-то взбудораженный и отчасти недовольный. Стал изливаться перед Васей, а вернее — перед самим собой.
— Конечно, отец дьякон — ученый муж, токмо почто Болотникова-то порочить? Длинногривый со всеми своими потрохами мизинца не стоит Болотникова! И то сказать — на всяк роток не накинешь платок. Пойдем! — сказал он, расправив широкую грудь.
Вася, задумчиво, сосредоточенно глядя вдаль, чинно шагал рядом.
— Ну вот, Вася, скоро и к Сергию прибудем. «Троицу» Андрея Рублева во храме узрим! Для того из Москвы и тронулся я. Слушай да запоминай крепко. Коли ныне не все поймешь, наступит время — уразумеешь. Века пройдут, а творения великого нашего живописца Андрея Рублева во славе останутся. А он, почитай, двести лет назад до нас творил.
Голос старого иконописца слегка дрожал и звучал торжественно. Он вперил взор свой куда-то в зеленую, насыщенную солнцем даль и продолжал говорить, а Вася, затаив дыхание, слушал.
— Рублев писал все божественное, иконы, но в иконах тех — жизнь человеческая. Не в названье суть: ангел-де или Христос написаны, а как писаны. Зришь на творения его и радость видишь. Лики, изображенные им, прощают от всего сердца грешных, горюют об их грехах и горестях, желают пламенно, чтобы жизнь лучше стала. Человек в его творениях виден, очищенный от мерзости житейской… И другие великие живописцы на Руси были — Феофан Грек, Дионисий и иные…
Есть икопописцы, кои по заказу пишут — и все тут. А есть, кои к народу близки, страданья его чуют, горе неизбывное Руси великой. Зри на святых угодников, мучеников, ими писанных, и почуешь, это горе вековечное в ликах их, темных, сумрачных, гневных, а глаза запали, скорбные, укоряют словно. А от кого горе? Сам ведаешь — вьюнош смышленый — от царя неправедного, от бояр, дворян, людей богатых. Токмо не все иконы так пишутся. Возьми Георгия Победоносца, копием дьявола, во образе змия, пронзающего. На коне летит он — воитель карающий, зла победитель. А лик радостен от победы той. Сие так понимать надлежит: народ пронзает властных злодеев мира сего, кои жить ему человечно не дают. Так-то вот, вьюнош, в иконах разбираться надо, что к чему…
Вася слушал внимательно, запоминал крепко.
Утренняя служба в Троицком соборе лавры кончилась. Народ разошелся.
Как мышь, копошится, шуршит поминальными записями черный монашек у свечного ящика. Вот и он уходит на паперть, по пути забирая с подсвечников догорающие свечи. Шаги его гулко раздаются под каменными сводами пустынного храма. Настала тишина, временами прерываемая воркованьем горлинки, доносящимся сквозь открытые стрельчатые окна. Проносится нежный запах цветущей липы. Лучи солнца играют на стенах, покрытых фресками, иконами, на полу из каменных плит, освещают иконостасы, сверкают в драгоценных камнях на ризах святых. Тускло и призрачно мерцают лампады.
Мирон Калиныч и Вася сидят рядом на длинной низкой скамейке, смотрят на стену. Там изображена овеянная легендами «Троица» Андрея Рублева. О всем на свете забыл старый иконописец, неотрывно смотрит. Для того и прошел он шестьдесят верст из Москвы. Несколько раз в жизни приходил он в это дорогое для него место: молодым, в годах уже, стариком. Погружался в созерцание, словно бросался с крутого берега в волны ласковой реки, плыл по течению долго-долго, ослепленный лучами нетленной красоты.
— Века текут… Возвышаются и гибнут царства земные, а образ сей и творец его воистину нетленны!
Восторг перед этой картиной был у него до того велик, что переходил даже в боль, трудно переносимую. Сердце замирало; тяжко, с перебоями билось… Все обыденное, тусклое, грязное сгорело. Оставались красота и величие. Вот и теперь он думал, прижимая руку к своей старой, трепещущей груди: «После созерцания образа сего и умереть нет страха!..»
— Гляди, Василий, — сказал он торжественно. — Какое созвучие, какая мягкость красок ярко-голубых, розово-сиреневых, серебристых, цвета зеленеющей ржи, красок поющих, звенящих. Эти созвучия — словно гимны торжествующие… Гимны, несмотря ни на что, непобедимой и светлой любви…
Читать дальше