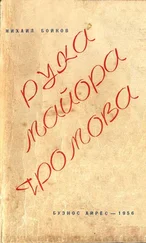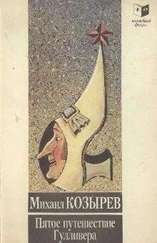Воздух продолжал вливаться в его легкие, не кончаясь. Наверно, у ствола ольхи сохранился узкий проход наружу, вроде щели, через которую, подобно родниковой воде, воздух просачивался вниз, к корням дерева. Он снова вцепился пальцами в корневище и, напрягшись, стал подтягиваться к ольхе. Тяжесть, не уступая, давила на его ноги. Если он попытается высвободиться рывком, снег может осесть и завалить проход для воздуха, уничтожить пуповину, соединяющую его с жизнью. Ноги прикрыты полой бурки, но холод проникает и под нее. Замерзшие, затвердевшие ноги, сколько их ни растирай потом, не оживишь.
* Бешту — Бештау, Ошхамахо — Эльбрус.
** Мазитха — бог леса и охоты.
Озермес снова попробовал поворачиваться с боку на бок и наконец сообразил, что в живот ему упирается рукоять кинжала. Вытащить бы его из ножен. Подтянувшись к ольхе и повернувшись, он высвободит кинжал. Им можно вырезать куски снега над собой, уминать их под себя и так, постепенно поднимаясь, сесть и, если получится, даже встать, и тогда он, вроде крота, пророется наружу.
Озермес запыхался, мышцы рук одеревенели, во рту пересохло. Он стал отламывать комки снега и, засовывая в рот, разжевывать, утоляя жажду. Хвала повелителю путников Зекуатхе, лавина, превратив Озермеса в своего раба, в изобилии снабжала водой. Будь он нартом, разжевал и выпил бы всю воду, которая, став снегом, обрушилась на него.
Стоит человеку остаться наедине с самим собой, как он тут же теряет разум. Вообразить себя в мыслях нартом может каждый, но, как говорит пословица, самый искусный пловец тот, кто стоит на берегу. Ласка или куница, застряв они под снегом, давно выбрались бы наружу и обрели свободу — самое наивысшее благо для каждого живущего на земле, а он, вообразив, что смог бы стать нартом, не в силах извлечь из под снега и камней даже собственные ноги...
По ущельям уже бродили сумерки, когда издали послышался рокот водопада. Из низких облаков выбралась луна. Чебахан посмотрела на нее. — Сейчас луна ясная, видно, как чабан пасет овец*, а позавчера луна была мутная, с размытыми краями, и мама сказала, что это к войне и что луна редко ошибается. — Колесо луны ненадолго скрылось за горной грядой, уходящей к морю, потом выкатилось из за нее и въехало в облачко, повисшее над морем. Снизу, из долины, потянуло гарью. На противоположном от водопада краю долины мерцала в темноте россыпь огоньков.
Озермес обогнал Чебахан и пошел вперед. Они дошли до холма, на котором стоял дуб, спустились по пологому откосу, и Озермес, остановившись возле ближайшего пожарища, пригнулся и стал всматриваться в темноту. — Пойдем, — дрожащим голосом шепнула Чебахан, — я могу ходить по аулу с завязанными глазами. — Они дошли до того места, где утром стояла сакля родителей Чебахан. Все сгорело — и сакля, и хлев, и сеновал, и хачеш, в котором они провели брачную ночь. Чебахан, оцепенев, всматривалась в пепелище. Озермес опустил наземь свою ношу и прошелся по пеплу, вороша его чувяками. Черная, мелкая, как мука, зола тучками вспухала в воздухе.
* В пятнах на луне адыги различали чабана, пасущего овец.
Озермес осмотрел ближайшие кусты. — Никого, — сказал он вполголоса. — Побудь здесь, а я обойду долину. — По тропинке, ведущей к верхней части аула, он дошел до россыпи огоньков, примеченных им с горы. Огоньки оказались грудой тлеющих угольков, раздуваемых низовым ветром. Озермес выбрал головню покрупнее и, размахивая ею, обошел сожженный аул. Пахло гарью, паленой шерстью, жареным мясом. В кустарниках заплакали, завыли шакалы и замелькали зеленые огоньки. Озермес швырнул в них головню. Кусты зашелестели, и огоньки погасли. Вскоре шакалы завыли где-то у водопада. Озермес подобрал головню и вернулся к Чебахан. Она стояла там, где он оставил ее, и, услышав его шаги, обернулась. — Придется ждать рассвета, — сказал Озермес. — Я разожгу костер, а ты разверни бурку и приляг, поспи. — Я не смогу заснуть, — пробормотала она. Луна докатилась до моря и стала медленно опускаться в воду. — Может, они остались живы и ушли? — вслух подумала Чебахан. Озермес помолчал, его сбивало с толку, что нигде не было видно убитых. Он разжег костер, усадил на бурку Чебахан, сел с ней рядом и стал смотреть на круговерть алых, желтых и синих огней в костре.
Как понять происходящее в мире? Вот он перед ним, этот мир: небо, по которому сонно передвигаются облака, вдали неоглядная морская пустыня, водопад, поющий свою вечную песню, застывшие горы, леса, которые, как и люди, передают свою душу молодым деревцам, прорастающим из семени, и так продолжается от лета до лета, от зимы до зимы. Жизнь беспредельна, но в чем ее смысл, откуда она пришла и куда идет? Неужели она взялась из ничто и в ничто же уйдет? Если у нее нет ни начала, ни конца, значит, человек не может увидеть ни начала, ни конца жизни. Он, Озермес, сидит у костра и думает, мысль его устремляется далеко, она может покинуть долину и враз облететь земли абадзехов и кабардинцев, мигом пронестись до Анапы, до которой путнику добираться берегом моря восемь — десять дней, мысль быстра, как молния Шибле, ее никто и ничто не остановит, она может перенести Озермеса в детство, вернуть ему живые глаза и голос умершей матери, но бесконечна ли мысль, может ли она проследить за бесконечностью всего сущего? Мысль человека имеет начало и конец, она рождается, разгорается подобно огню, а потом угасает, как сгоревшая ветка. Мысль замкнута, она не уходит за границу того, что человек видел раньше и видит теперь, проникнуть же в то, что произойдет завтра, будущим летом, или будущей зимой, или в те времена, когда будут жить правнуки правнуков Озермеса и Чебахан, мысли не дано...
Читать дальше