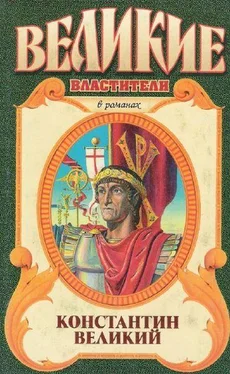— А, пребывая на земле, являлся ли Христос все же человеком?
— И Богом, и человеком, согласно нашему вероучению, — поправил его Евсевий. — Но когда Христос был взят на небеса после воскресения из мертвых, Отец снова вернул ему славу Божественности Господа нашего, и теперь он правит вместе с Отцом как Бог. Ориген сказал так: «От него пошел союз Божественного с человеческим — чтобы человеческое путем общения с Божественным могло бы подняться до уровня Божественности».
— Мне все еще не понятно, из-за чего весь этот спор.
— Арий учит, что Христос, являясь творением Бога, не существовал до своего рождения как человек и поэтому является не частью самого Бога, а отдельным от него существом. Учение о Троице, разделяемое большинством христиан, говорит о том, что Бог фактически триедин: Отец, Сын и Святой Дух и является таковым с самого начала. Христос, Сын, был создан в виде человеческого существа и явился на землю, чтобы выполнить задачу спасения людей. Хотя его больше нет на земле, он все еще посылает к нам Святой Дух, чтобы он внедрялся в души людские и сообщал им атрибут его Божественности, путем чего они могут обрести жизнь вечную.
— Должен признаться, что я вижу мало разницы между этими двумя концепциями, — сказал Константин. — А на чем стоишь ты сам?
— Арий мой друг, я сидел у его ног, пока жил в Египте. Для грека, подобного мне самому, его учение кажется логичным, так что я бы не стал возражать против его права учить, как это делал в Египте епископ Александр. Я, собственно, полагаю, что истина находится где-то посередине между точками зрения Ария и Александра.
— И ты бы хотел, чтобы я посредничал между ними — может, они тогда и придут к соглашению?
— Если это возможно, доминус.
— Лично мне весь этот спор кажется абсурдным, — признался Константин. — Но я не могу потерпеть, чтобы священники и епископы набрасывались друг на друга, как женщины в соседском споре. Я пошлю к Арию и епископу Александру Хосия с письмом, в котором попрошу их примирить свои мнения.
Письмо, повезенное кордубским епископом, когда он отбыл из Никомедии в Александрию, не оставляло никаких сомнений насчет отношения Константина к этому спору и его искреннего желания немедленно положить ему конец.
«Но ах! Славное и Божественное Провидение (писал он). Какая рана оказалась нанесена не только моим ушам, но и сердцу, когда я услышал, что между вами существуют разногласия еще более прискорбные, чем те, что существовали в Африке, и что вы, посредством кого я надеялся принести излечение другим, сами нуждаетесь в еще более сильном лекарстве. И все же, тщательно изучив источник этих споров, я вижу, что причина совсем незначительна и полностью не соответствует такой ссоре. Сдается мне, что нынешнее разногласие началось так: когда ты, Александр, спросил мнение каждого из пресвитеров об отрывке в Писании или, может, о некой стороне какого-то дурацкого вопроса, ты, Арий, не подумав как следует, изложил мысли, которым и вовсе не стоило бы рождаться или, уж коли они родились, следовало бы крепко держать за зубами. Поэтому возникли между вами раздоры, запрещенным стало общение, и самые благочестивые, разорванные на два лагеря, больше не сохраняют единства общей массы верующих.
Такое поведение вульгарно и больше подобает капризным детям, чем проповедникам Бога и здравомыслящим людям. Это обман и искушение дьявола. Давайте-ка покончим с этим. Если все мы не можем мыслить одинаково по всем спорным вопросам, то, по крайней мере, могли бы быть едины в отношении важнейших основ. Что касается Божественного Провидения, пусть будут одна вера и одно понимание, одно единое мнение в отношении Бога».
Будь там Даций в прежнем своем качестве совести Константина, он, возможно, указал бы на то, что это письмо является примером растущей склонности императора деспотически расправляться с мнениями других там, где дело касается его собственных решений, примером нетерпимости ко всем мнениям, несогласным с его собственным. Но никто не стремился убедить Константина сделать тон письма менее властным и деспотичным, с тем чтобы оно естественно оказало предсказуемое воздействие на такого блестящего и самобытного мыслителя, как Арий. А между тем были и другие дела, доставлявшие беспокойство правителю Рима.
Мрачным и осунувшимся встретил он свою семью, прибывшую в Никомедию. Нисколько не смягчили его настроения и горящие щеки Фаусты, словно штормовые флаги предупреждавшие о кипевшем в ней возмущении — еще бы: в самый разгар зимнего общественного сезона ее оторвали от любимого ею Рима.
Читать дальше