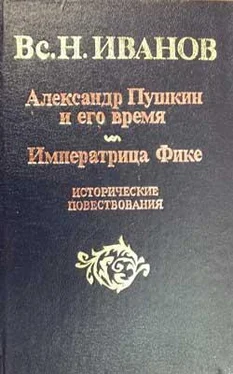Движение Карла на Москву могло оказаться не менее грозным, чем спустя сто лет движение Наполеона.
Будь этот великий, задуманный Пушкиным труд о Петре написан, Россия имела бы грандиозный роман, который бы развернул перед народом в высокой художественности время творческого перелома в Русском государстве, показал бы его цели, изъяснил способы осуществления, наконец, показал бы живых людей, — энергичных сотрудников Петра, которые самостоятельно помогали ему.
В конце 1832 года Пушкин работает над повестью «Дубровский». Это тоже завершающая работа — повесть, говорящая о возможной активности в истории и для отдельных личностей, осталась незаконченной. Повесть эта, написанная едва ли не в плане «простых» повестей И. П. Белкина, обычно рассматривается как произведение характера бытописательного. Однако «Дубровский» — повесть, в глубоко прикровенном виде трактующая ту же тему, которая звенит в широко известном юношеском стихотворении Пушкина «Кинжал», она проработка его варианта.
В последней строфе «Кинжала» есть одна строка, ярко выражающая тему этого варианта:
Грозя бедой преступной силе…
Кинжал, как мы видим, угроза, скрытое и справедливое оружие в смелых и честных руках, карающее всех, посягающих на свободу народа, кто бы они ни были…
Глубоко исторически мыслящий Пушкин в «Дубровском» как бы ставит себе прямой вопрос:
— А проявляется ли такая практика борьбы за свободу и у нас на Руси? Есть ли у нас каратели «неоправдываемого насилия»?
Повесть «Дубровский» отвечает:
— Да. Есть такие факты!
Это П. В. Нащокин рассказал Пушкину случай, когда бедный белорусский дворянин Островский, проиграв тяжбу с богатым соседом, был выселен из своей усадьбы. Крестьяне своего барина не оставили, присоединились к нему, пошли за ним, и все они стали грозными мстителями крапивному семени судейских чинуш.
Действия Островского — повесть сперва так и называлась «Островский» — явили естественную реакцию самой жизни. Это не ледяная, отвлеченная теория «права на оборону», здесь — сама огненная практика, естественный, живой акт самозащиты. Это жизнь, смело защищающая саму себя и тем двигающая, исправляющая, создающая историю. Вот так действовали когда-то переплывшие Днепр скованные братья-каторжники, так действовал в Молдавии болгарин Кирджали. «Каков Кирджали?» — восхищенно восклицает Пушкин в конце повести того же заглавия, написанной в те же тридцатые годы.
Минуем роман Дубровского с Машей Троекуровой, оставим в стороне сожжение судейских, ночной грабеж Антона Пафнутьича и остановим внимание наше на последней картине повести… Дубровский и его мужики организованно дерутся против роты солдат; дворянин Дубровский убивает офицера и одерживает победу. В «Литературной газете», как мы видели, Дельвигу приходилось писать вместо «мятежник» или тем более «восставший» — «злодей», «разбойник», чтобы, словно Одиссей под связанными друг с другом баранами, проскользнуть мимо Циклопа дремлющей цензуры.
А Дубровский уже никак не «разбойник». Он — восставший дворянин во главе своих восставших крестьян, чтобы предъявить свои вассальные, что ли, права на государственную справедливость. Это не революционер, сметающий напрочь государство, чтобы строить новое. Это Человек, правой силой исправляющий в государстве недостатки его структуры… Если же это «разбойник», то разбойник шиллеровский, благородный, Карл Моор из шиллеровских романтических «Разбойников». Отголоском старого романтизма Пушкин включил сюда же и образ Маши Троекуровой.
Повесть «Дубровский» осталась неоконченной, да и трудно было ее закончить чем-либо иным, кроме бегства Дубровского за рубеж. Повесть эта осталась художественной декларацией посильного права каждого — и дворянина, и крестьянина, и вообще каждого русского гражданина — на борьбу с несправедливостью.
Эта линия пушкинского глубокого, решительного протеста в защиту прав гражданина все время, пусть и с мудрой осторожностью, проявляется в разных его творениях… А работа в архивах идет, накапливание материала продолжается. Это не значит, что Пушкин восторгается всем, что бы ни делал Петр, как ни восторгался он и тем, что творил, так сказать, объявленный продолжателем дела Петрова царь Николай Первый…
«Одно из затруднений составить историю его, — говорил Пушкин Д. Е. Келлеру незадолго до смерти, — состоит в том, что многие писатели, недоброжелательствуя ему, представляли разные события в искаженном виде, другие с пристрастием осыпали похвалами все его действия».
Читать дальше