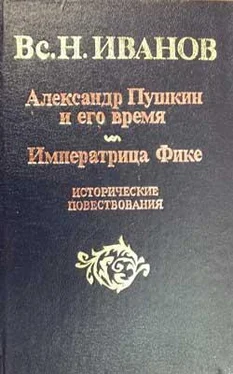Кто же прав в ту лунную ночь на «белой площади Сената» — Петр или Евгений? Могущественный император или «подданный» его — бедняга канцелярист?
Многие пушкинисты стоят горой за Петра — верят они в Петербург, и в петровский, и в послепетровский… Петр делал общегосударственное дело, а Евгений — свое частное дело… И правильно-де, если «частное» начинает протестовать, становиться поперек дороги общему, оказываться помехой, то «общее» беспощадно отбрасывает его прочь. Сшибает, сносит со счетов как некий процент неполадки.
Так рассуждало ещё римское право в железной формуле: «Делу общему (республике, государству) жить необходимо, тебе же жить нет необходимости…»
Сердце, сердце необходимо герою при совершении великих дел — при создании государств, постройке городов. Живое сердце! И в отсутствии сердца упрекает великого Петра маленький человек…
За короткой фразой «Ужо тебе!..» — даже не фразой, а каким-то междометием, — угадывается целая речь, обличение Медного всадника.
В поэме никакой речи нет, а между тем, несомненно, такая речь была. Этому свидетель гений Пушкина, и это же свидетельствует и запись сына Петра Андреевича Вяземского — княжича Павлуши Вяземского.
«Из сочинений Пушкина за это время неизгладимое впечатление произвела прочитанная им самим «Капитанская дочка» и не напечатанный монолог обезумевшего чиновника перед Медным всадником. Монолог этот, содержащий около тридцати стихов, произвел при чтении потрясающее впечатление, и не верится, чтобы он не сохранился в целости. В бумагах отца моего сохранились многие подлинные стихотворения Пушкина и копии, но монолога не сохранилось, весьма может быть потому, что в монологе слишком энергически звучала ненависть к европейской цивилизации. Мне все кажется, что великолепный монолог таится вследствие каких-либо тенденциозных соображений, ибо трудно допустить, чтобы изо всех людей, слышавших проклятье, никто не попросил Пушкина дать списать эти тридцать-сорок стихов».
И если Дубровский убежал за границу, не имея другого выхода, то и Евгений тоже бежит
…по площади пустой
Бежит и слышит за собой —
Как будто грома грохотанье —
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой.
И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко скачущем коне…
Так уходили в «ухожаи» крестьяне, так бежали дворяне, офицеры и солдаты при вспышках пушек через Исаакиевский мост, в сумерках 14 декабря 1825 года на лед Невы. Так убежал Кюхельбекер. Так умер потрясенный грубостью Бенкендорфа Дельвиг. Так убежал Дубровский, Так убегал от государства и Евгений…
Тишина, правда, внушена Евгению, но она не такая, какой бы хотелось:
И с той поры, когда случалось
Идти той плошадью ему,
В его лице изображалось
Смятенье. К сердцу своему
Он прижимал поспешно руку,
Как бы его смиряя муку,
Картуз изношенный сымал,
Смущенных глаз не подымал
И шел сторонкой.
Смело Пушкин вперяет испытующие свои очи в историю и видит, что русский народ не всегда бегал от государства по своей огромной территории, не всегда раскатывался горошком, а и, бывало, сам наступал на государство, требуя свободы для своей, а не только для государственной деятельности.
Требовали свободы декабристы, дворяне, стремясь к революции, и тем не менее боялись «эксцессов», «крайностей народа» — эксцессы эти ведь были, так сказать, в нашей природе вещей. Вся история наша свидетельствовала практикой еще времен северных республик, что воля народная даже на вечах новгородских и псковских выявлялась не дисциплинированным «голосованием» — поднятием рук, а криком великим, дракой и подчас утоплением противников в реках Волхове и в Великой с мостов.
И вопрос Пушкиным был поставлен так:
— Может ли дворянин встретиться и работать с Пугачевым?
Так возникает пушкинская «История Пугачева» — исследование, писанное не каким-нибудь педантом профессором «императорского университета», а гениальным провидцем-поэтом, великим патриотом Пушкиным, основательно изучившим государственные архивы и объехавшим лично места крестьянской войны, где он нашел еще живыми очевидцев событий тех грозных решающих дней.
В отношении самого Пушкина этот вопрос о возможности работы с Пугачевым был давно им обдуман и решен бесповоротно положительно: он — и «дворянин», он — и «мещанин» никак не считал себя обсевком в русском поле, никак не мог признать себя «врагом народа»… Ведь он ждал этого освобождения народа, он звал и вел к этому своих современников. Он, видевший русский народ в сраженьях, на богомольях, на праздниках, на ярмарках, любил его и бегать от него не собирался.
Читать дальше