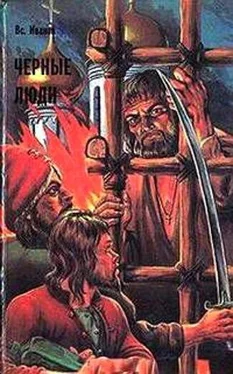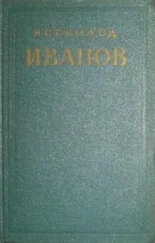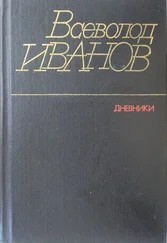Сердце Тихона горело, билось, рвалось из груди. Его то Аньша! Скорбная, печальная. Красивая, словно богородица.
Анна не видела его — смотрела то на Кирила Васильича, то на мужа, длинные ее ресницы дрожали темной тенью.
А воевода стоял спокойный и, должно быть, гордился тем, что у него такая жена, что у него такой уверенный голос, что он едет в Москву, к царю, что за три года он нажил в Холмогорах богатство, что он силен, властен, а сильным и властным принадлежит жизнь.
Тихона ровно волной качнуло в сторону, фонарь осветил ему лицо, он видел — Анна посмотрела на него, брови ее дрогнули, взлетели выше.
Так в низких тучах осеннего вечера блеснет вдруг алое солнце, озарит, обдаст багряным светом поле, высокий дуб на холме, но тучи сомкнутся — и не веришь уже, что было солнце, сразу встает осенняя ночь.
Анна подняла голову, твердо сжала губы, нежные ноздри раздулись. Спокойно подняла руку, тронула мужа за рукав.
— Боярин, — сказала она, — время! Кони ждут.
Пошла по лестнице, гордая, как будто никого не видела.
Боярин заторопился за ней.
Ульяш рядом толкнул Тихона.
— Какова боярыня-то! — шепнул он — и отшатнулся, увидев бешеные глаза Тихона…
Проехали Переяславль, на Плещеевом огромном озере ветер крутил, гонял белые поземки по льду. И чем ближе к Москве, все больше оживлялся Семен Исакович, патриарший человек.
Когда же перед тройкой на версты и версты легла прямая как стрела дорога к Троице-Сергиевскому монастырю, Пахомов взволновался так, что слезы выступили у него на глазах.
— Вот место! Вот твердыня! Ведь всего-то сорок лет тому назад польские воеводы Сапега и Лисовский осаждали без мала два года и не могли взять монастыря!
Семен Исакович был в ту пору мальчонком из Клементьевской монастырской слободы, хорошо помнил, где стояли польские пушки: и за Келарским прудом, и на Красной горе. Оттуда ляхи вели подкопы к воротам монастыря. Храбро бились тогда на стенах монахи и окрестные черные люди под воеводами князем Долгоруким Григорьем Борисовичем да под Голохвастовым Алексеем Иванычем.
— Смотрите, смотрите, — показывал он из возка, — видите, из снега черно торчат кочерыжки капусты? И тогда тоже был тут огород капустный, под стеной. Ляхи ходили туда за капустой, а со стены по веревкам наши спускались, много их тут били. Один из наших тут, Оска Селевин, изменил, окаянный! Сбежал к ляхам! А у него братан был, Данило Селевин. Ну, стали все корить Данилу за брата. И сказал тогда Данило: «Измену брата моего выкуплю я смертью!» И ударил Данило на ляхов — силен был рубиться, и срубил трех казаков-изменников, и сам был ранен. И, приняв монашество, преставился честно — помер!
Возок скакал по Ярославской дороге, Троице-Сергий проходил мимо своими стенами, башнями, храмами, в тиши снежного декабрьского дня словно доносились шумы давно отгремевших битв. Здесь проходил Дмитрий Иванович Донской биться с Мамаем, здесь его благословил седой игумен Сергий. Сюда всего за двадцать лет снова приходил королевич Владислав, требуя от присягнувших ему шатущих бояр того, в чем отказал ему свободный народ московский, — власти над собою.
Отдохнули на последнем яме, впереди была Москва. Все чувствовали себя взволнованными. Кирила Васильич посмеивался, Пахомов про себя молился, у Тихона давило в груди: что-то готовила ему Москва?
Только один Ульяш был с виду спокоен, красивые глаза его в черных ресницах лениво улыбались. Молодой! Что ему? И, поглаживая русую раздвоенную бородку и усики, Ульяш Охлупин думал, каковы девушки в Москве.
— Москва! — крикнул ямщик, указывая кнутом. — Вона!
На закате вдали, над черными сплошными избами, мерцал золотом Иван Великий.
Как все старые города русские стоят на острогах — на мысах при слиянии рек, Москва стала тоже на слиянии рек Москвы и Неглинной, тоже на холме, как все города. Города все укреплены стенами, и крепче всех других городов стены Московского города-крепости — Кремля. Высоки его стрельницы-башни, крытые зеленым изразцом, на башнях золотые орлы, под башнями — тяжелые ворота.
Вокруг всех городов московских — посады.
И вокруг Кремля тоже посады. Там живет двести тысяч посадских черных людей.
Три кольца стен охватывают в Москве эти огромные посады, образуют собой еще три города:
Китай-город.
Белый город.
Земляной город.
В трех посадах, за стенами, жизнь бьет ключом. Московские посады тоже сплошь покрыты чешуйками крохотных дворов. Вокруг каждого двора тын из заостренных бревен, ворота…
Читать дальше