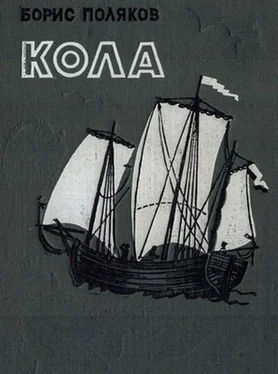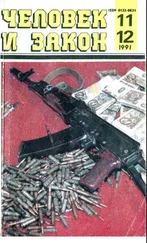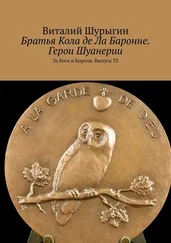– Так это он, баламутит, – отмахнулся унтер. – Матвей тут давеча рассказывал, отчего по бабам уже не ходит. Какая-то скинула его на пол. С тех пор высоты боится.
Матвей? Шутками пробавляется? А с Шешеловым он по-другому себя ведет.
– Давайте так порешим. Изберем добровольников поснимать знаки. Но снимать при условии, если первыми будут стрелять с корабля. Нам-то лучше, чтоб с миром они ушли.
– Вестимо, что лучше, – ответил унтер. – Но если случится, я согласный идти.
– Меня с собой возьмешь, – сказал Маркел.
– И меня, – караульный Максим повернулся к ним.
С караульным Максимом сидит белокурый ссыльный.
Его на суде стариков приговорили до божьего суда, кажется. Шешелов пожевал в раздумье губами: Маркел безногий, унтер и Максим. Старые все.
– Помоложе, считаю, надо. Попроворней чтоб были. И не более одной шняки. Если увидят ее с корабля да ударят картечью, из шняки сделают решето.
В наступившем на миг молчании голос ссыльного как сорвался:
– Дозвольте мне! Я управлюсь.
– Чего ты-то прешь?! – сразу же выкрикнул сын Герасимова. – Не колянин! Или тоже хочешь сбежать!
У ссыльного кровь отхлынула от лица, однако на окрик не обернулся. Он глаз от Шешелова не отводил и словно молил усердно его: пошлите. Дарья еще по весне просила об этом парне. И Сулль. Да и Шешелову тогда в кутузке чем-то он приглянулся.
– Почему ты хочешь идти? Сиди, сиди.
– У меня ни родителей нет, ни близких. Если меня и заметят, то ничего.
В искренность его верилось. И коляне кругом молчали.
– Он, ваше благородие, крепкий. Не подведет, – погодя сказал Максим.
– Хорошо. Пусть по-твоему.
– Вы пошлите меня! Я сызмальства на воде! Помор и моряк, не чета ему, – сын Герасимова взбешен был. – А то он на корабль сбежит. Его дружок уже там!
«Да, и девушка приходила, Нюша. Молодому Герасимову невеста. Знают ли всё сидящие тут коляне? Вдруг на шняке эти передерутся? Герасимов, помнится, говорил: до ножа у них доходило».
И спросил его, тоже мягко, ласково:
– А ты почему хочешь идти?
– Счеты свои у меня с англичанами, все знают. И не надо, чтоб не колянин защищал Колу.
– Выходит, и мне нельзя?
– Вы на службе, а он сбежать может.
– Это ты зря, Кир Игнатыч, – сказал Максим.
Младший Лоушкин встал, совсем не похожий на крикуна.
– И меня пошлите. Я третьим пойду.
– А тебя почему?
– А так, – он мельком глянул на ссыльного, на сына Герасимова. – Пошлите – и всё.
Коляне, тупя глаза, молчали. Они, видно, тоже немало знают об этих парнях.
– Пошлите третьим его, – старший Лоушкин показал на брата. – Троих в шняке хватит. Тут дело житейское. Пошлите, справятся они.
Это было весомое слово, старший Лоушкин. Да и парни все ладные были, крепкие.
– Хорошо, – Шешелов взглядом каждого из троих позвал. – Идите сюда поближе. Старшим ты будешь, – и ткнул пальцем в сына Герасимова. – За них и за знаки – за все спрос с тебя учиню. Помни: люди вы русские, и вам не до ссор теперь. А знаки только в случае снимать надо, если корабль станет стрелять. После этого только. Никак нельзя раньше отрезать ему дорогу. Может статься, еще уйдет.
– Иван Алексеевич, – сказал Пушкарев, – остальным бы надо окопы рыть. Время идет.
– Да, да. Идите, братцы. Идите все. Храни вас господь. – И жестом оставил себе молодых. Он был тронут решительностью их, он хотел бы сказать им важные очень, главные, может, в жизни своей слова. Но путались мысли, не скажешь их вдруг, сразу. И Шешелов встал. – Вот что, ребятушки, вот что, дети мои... Вас отечество не забудет. Вы запомните, это каждому навсегда, отечество. И хотя вы не ради корысти какой-нибудь, понимаю, но оно не забудет. Вы, сыны его, уж поверьте. – Ему бы хотелось обнять благодарно их, каждого, особенно ссыльного, солдата из крепостных, судьбой отдаленно похожего на него. Положил ему на плечо руку. – А коли будем в живых мы все, я твою свободу исхлопочу. Непременно исхлопочу. – И увидел, как изменилось лицо, от боли душевной, радости ли, встали слезы в глазах у парня, и поспешно добавил всем: – Постарайтесь себя сберечь. Сберечься и дело сделать. Непременно надо их обхитрить.
Он смотрел, как пошли они врозь в окопы, все под стать Пушкареву, рослые, молодые, ощутил, как занозу в душе, ревность к новому городничему, и скорее почувствовал, чем подумал: уезжать никуда не надо. А вот благочинного и Герасимова стоит сейчас найти да проститься с ними на всякий случай. А еще им надо сказать, что если случится с ним, что может теперь быть с каждым, – пусть они его книги возьмут себе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу