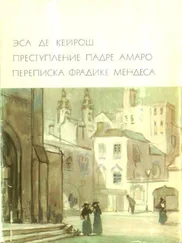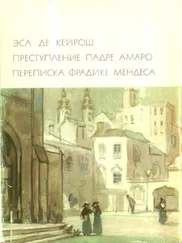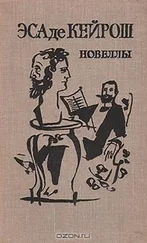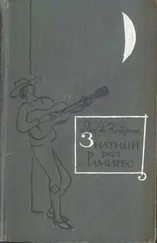– Что вам угодно, падре?
– Я пришел за водою… – пробормотал он.
– Ах, эта Руса! Какая забывчивая! Извините, падре, извините. Посмотрите, в столовой на столе есть кувшин с водою. Нашли?
– Нашел, нашел.
Он медленно спустился к себе в спальню с полным стаканом. Руки его дрожали, и вода расплескалась на блюдечко и на пальцы.
Он лег, не прочитав на ночь молитв. Уже поздно ночью Амелия слышала, как он возбужденно ходил взад и вперед по своей комнате.
Амелия тоже никак не могла заснуть в этот вечер. На комоде медленно гасла лампа, отравляя воздух скверным запахом масла; на полу белели сброшенные нижния юбки. Глаза кошки сверкали в темноте фосфорическим зеленоватым блеском.
В соседней квартире непрерывно плакал грудной ребенок. Амелия слышала, как мать укачивает его, напевая песенку:
«Спи, малютка, спи…»
Это была бедная прачка Катерина, которую поручик Сова бросил беременную и с грудным ребенком. Она была прежде хорошенькою блондинкою, а теперь обратилась в изможденную, поблекшую женщину.
«Спи, малютка, спи…»
Амелия хорошо знала эту колыбельную песенку. Когда ей было семь лет, мать постоянно напевала ее в длинные зимния ночи маленькому, давно умершему сыночку.
Амелия прекрасно помнила это время. Они жили тогда на другой квартире. Под окном спальни росло лимонное дерево, и на его пышных ветвях мать развешивала пеленки малютки Жоана для просушки. Отца девочка никогда не знала. Он был военным и умер молодым; мать иногда вспоминала, вздыхая, о его статной, красивой фигуре в блестящей форме кавалериста.
Восьми лет Амелия начала учиться у пухлой, белой старушки, хорошо знавшей монастырскую жизнь; любимое занятие учительницы состояло в том, чтобы сидеть с шитьем у окна и рассказывать про монахинь. Амелия страстно любила слушать эти рассказы. В это время ее так привлекали церковные торжества и монастырская жизнь, что ей хотелось быть тоже «монахинею, но очень хорошенькою, под белою вуалькою».
К матери её часто приходили в гости священники. Настоятель Карвальоза, коренастый старик, задыхавшийся от астмы на лестнице и говоривший гнусавым голосом, навещал сеньору Жоаннеру ежедневно, как друг дома. Амелия называла его крестным. Возвращаясь по вечерам с урока, она всегда заставала его с матерью в гостиной за болтовнею. Он сидел удобно, расстегнув рясу, подзывал ее к себе и спрашивал уроки.
Вечером приходили еще гости – отец Валенте, каноник Крус, приятельницы матери с вечным вязаньем, и капитан Косеро, всегда приносивший с собою гитару. Но в девять часов девочку посылали спать; она видела в щелку двери свет, слышала громкие голоса; потом наступало молчание, и капитан начинал петь, – аккомпанируя себе на гитаре.
Так росла Амелия среди священников. Но некоторые из них были антипатичны ей, особенно отец Валенте, жирный, вечно мокрый от пота, с мягкими, пухлыми руками. Он часто брал ее на колени, пощипывал её румяные щечки и обдавал противным дыханием, пропитанным запахом лука и табаку. Зато она была в большой дружбе с каноником Крусом, худым, совершенно седым и очень опрятным стариком. Он входил в комнату медленно, кланялся, прижимая руку к груди, и говорил мягким голосом, слегка шепелявя.
В то время Амелия знала уже катехизис. И дома, и на уроках, ей твердили постоянно о гневе Божием, и Бог представлялся её детскому уму существом, умеющим посылать людям только страдания и смерть; она считала, что его необходимо ублажать и умиротворять постом, молитвою и преклонением перед священниками. Поэтому, если она забывала иногда помолиться с вечера, то налагала на себя на другой день покаяние из боязни, что Господь Бог пошлет ей болезнь или заставит поскользнуться на лестнице.
Лучшее время наступило для неё, когда ее стали учить музыке. В углу столовой стоял старый рояль, покрытый потрепанною зеленою салфеткою и служивший давно буфетным столиком. Амелия часто напевала, расхаживая по дому, и приятельницы посоветовали матери учить девочку музыке.
Настоятель рекомендовал хорошего учителя, бывшего органиста в соборе города Эвора. Это был очень бедный и несчастный человек; его единственная дочь, хорошенькая, молодая девушка, убежала из дому с офицером, а через два года один знакомый увидел ее в Лиссабоне на улице, разряженную и напудренную, с английским матросом. Старик-отец впал в глубокую меланхолию и в крайнюю нужду. Ему дали из жалости место в духовной консистории. Он был очень высокого роста, худ, как щепка, носил седые волосы до плеч; его усталые глаза постоянно слезились, а в доброй, попарной улыбке было что-то трогательное. В Лерии его прозвали за худобу и грустный вид Дядюшкою Аистом. Однажды Амелия тоже назвала его так, но сейчас-же закусила губы, покраснев от стыда.
Читать дальше