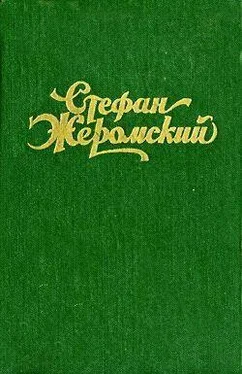Снова воцарилось молчание.
Неумолимые глаза солдат впились в Михцика. Каждый из них держал в руке ореховый прут с ощипанными листьями. Говор в толпе мужиков стих. По данному знаку первый с краю солдат схватил Михцика за руки. Но приговоренный оттолкнул его плечом и, как будто к нему одному обращаясь, в него одного вперив свои запухшие глаза, начал, заикаясь, пронзительно кричать:
– При во… при во… [124]я служил… сукины дети… немчура! Уважение имейте ко мне, собаки! К солдату! В битвах, в битвах я был, сволочи! В восьми! Под Козубовом…
По данному знаку его схватили за плечи, подхватили сзади за ноги и бросили наземь. Розги взвились со свистом, стегнули по спине. Михцик все срывался с земли с раздирающим душу криком. Не слышно уже было отдельных слов, слетавших с его окровавленных уст, одни лишь неясные обрывки. Рафал хорошо понимал их. Он слышал, как Михцик тщетно зовет его брата, как все время отрывисто повторяет одни и те же слова:
– Уважение имей ко мне, собака, к вольному человеку!
Жилы у Рафала судорожно сжались, диким пламенем вспыхнула в них кровь. Глаза ослепли и ничего не видели. Он точно оглох. Словно невыносимый смрад обдал его с ног до головы, такое овладело им отвращение ко всему на свете, к этому мужику, к самому себе. Воспоминание об ударе хлыста пронизало его вдруг насквозь, снова нахлынули мысли об этом, и сердцем овладело безумное отчаяние. То, что открылось его глазам, что врывалось в уши, лишь умножало бездонную и глухую пропасть жгучих страданий. И, как тогда, он весь затрясся от яростного хохота, который словно вырвался из пылающих огнем недр его души. Жеребец, которого он дернул изо всей силы, шарахнулся и, взвившись на дыбы, даже присел. Рафал повернул его, выехал из толпы и по той же дороге поехал назад в Грудно. Проезжая через деревню, он слышал, что кто-то бежит за ним, стонет и причитает, прося помочь Михцику, увидел даже серое лицо еврея Урии, но с трудом разобрал, что бормочет, заливаясь слезами, это жалкое существо. Глаз, угол рта, щека, лоб все сильнее ныли от удара хлыста. Голова была как в чаду, огонь сжигал кости, и словно бездна разверзлась под ногами юноши.
Солнце заходило за леса. Жеребец плелся нога за ногу. Рафал не гнал его. Он жаждал ночной темноты, как человек в горячке жаждет воды. В безлюдных полях, среди опустевших пожней, он ехал на лошади с повисшими, как плети, руками, и глядел на огненный диск. Он чувствовал, что в этот день солнце обдало его всем своим жаром. Мысли его еще метались…
Брат Петр… Михцик… Поля, выкорчеванные ими… Он поднимал руку, тяжелую, как камень. Он чувствовал, что ничего не в силах сделать… От зарослей можжевельника, от пожней, пахнущих кашкой и осенними полевыми цветами с их пряным ароматом, несся к нему этот страшный, мучительный ропот мужиков, звучал в ушах смутный говор возмущенной толпы, яростный вой, невыносимый стон. Щеку жгло, точно раскаленным железом. Рафал поднял хлыст и, натягивая поводья, стал стегать жеребца, сечь его по лоснящейся, изогнутой шее, хлестать по крупу, по животу… Жеребец глухо заржал, взвился на дыбы, рванул и помчался во весь опор, а бешеные удары обезумевшего всадника сыпались на него, как молния, и натянутый мундштук резал губы…
Осенью 1797 года князь Гинтулт уладил кое-как все семейные дела и уехал за границу. Сестер он оставил на попечение двоюродных и троюродных теток и целого легиона гувернанток, двух братьев отвез в Краков в школу, предоставил управляющему имением все полномочия, а надзор за своими делами поручил краковскому адвокату Доршту. Он освободился в это время от многих нахлебников, в том числе и от Рафала. Последний стал товарищем его братьев. Благодаря протекции князя Ольбромскому, хоть и с трудом, но удалось выдержать экзамен и поступить в класс «поэтики» в лицей Святой Анны. Много труда стоило князю получить в Вене паспорт в Италию, [126]а именно в Венецианскую Республику, ко двору папы, в земли короля Пьемонтского, великого герцога Тосканского, герцога Пармского и к Бурбонам в Неаполь. В Леобене как будто уже прервалась война, но искра еще тлела под пеплом. Так или иначе, широкие связи помогли Гинтулту получить драгоценную бумагу со множеством подписей, штемпелей и печатей. Князь уехал.
Быстро проносились мимо него горы Штирии, Каринтии, [127]длинные отроги Тирольских Альп. Он ехал по большой, старинной, горной дороге, пересекающей реки Саву, Драву и Мур, пока не выбрался, наконец, в пустыню Карста, [128]изборожденную известковыми холмами и скалами, где воды уходят в глубь земли, образуя в ней пещеры, подземелья, озера и реки. Эта безлюдная, каменистая местность была полна еще республиканскими войсками, которые под предводительством Массена, Гюйо, Шабо, Серюрье и Бернадота [129]медленно отступали к Пальма-Нуова, [130]оставляя Горицу и Каринтию. В этом месте тракт пересекали дороги, идущие с востока. С высот видны были белые ленты их, извивавшиеся по безводным, лишенным растительности горным цепям. Насколько хватает глаз, на этих дорогах клубилась рыжая пыль, и в тучах ее брели колонна за колонной на юг и на запад войска. Горные деревушки были выжжены и часто сравнены с землей. Люди встречали путешественника подозрительными, недоверчивыми взглядами, протягивая исхудалые руки за подачкой. В их почернелых устах звучала славянская речь…
Читать дальше