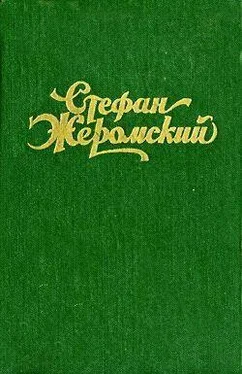Чудный овес рос там по нови, как дикий злак. Он кустился, посреди светлой опушки, густой, высокий и темный с широкими, волнующимися, переливающими на солнце стеблями.
Рафал не был так ласков с Урысем, как брат Петр. Он со смехом ушел от него и только по временам смотрел на тяжкий его труд из чащи березника, оставшегося среди возделанных уже полей.
В этом березнике, на широких лугах, в девственном и неприступном ракитнике над прудом, он проводил целые дни, а то и вечера, предаваясь ленивым мечтам» Случалось, он целых полдня пролеживал в дубраве на спине, глядя на плывущие по лазурному небу облака. Случалось, он по целым часам просиживал, скорчившись на кочке, среди ив и аира, будто бы подстерегая диких уток. Только почувствовав голод, он забывал о грезах и спешил домой. Нередко, погруженный в свои мысли, такие смутные, будто их и не было, он не слышал диких воплей Михцика, звавшего его на солдатский обед. А иной раз он приходил совсем рано, уверенный, что явился вовремя.
Единственно реальными были для него те чувства, которые кипели в его сердце.
Потому-то каждая минута одиночества доставляла ему такую радость. Вид пруда, извивов реки, лугов в июне, рощ и дремучих лесов был для него полон неизъяснимой отрады. Жизнь вдали от людей пленяла его какой-то своей, особенной, давней грустью, такой знакомой его душе. В эти дни бывали минуты восторгов, томительных и в то же время сладких, и оттого эти места стали как бы хранителями частицы его существа, глубины его души, каким-то чудом стали воплощением неуловимой тайны той ночи любви.
Были там темные ольхи над водой… Нет, не ольхи. Были черные, кровавые тени предчувствий над лазурной и струистой, изменчивой и расслабляющей водой, при виде которых душа надрывалась от мучительной тоски. Были молодые далекие березки… Когда Рафал обращал полные тоски глаза к их серебрящимся на солнце верхушкам, к их шелестящим невнятно листочкам, к их белоствольным станам, стыдливо прикрытым прозрачным убором, он слышал в глубине души как бы тайный обет, который давал чужой голос, голос, полный любовной ласки. Юноша никому не сумел бы объяснить, почему при взгляде на темные ракиты, которые, стоя густыми шпалерами, вечно хмурились над быстрыми водами реки, сожаления начинали томить его душу вопреки всяким законам рассудка.
Порою, когда он в невозмутимой тишине лежал на одном из песчаных холмов, окружавших прибрежные поемные луга, когда в сердце его пробуждались и зрели мечты о счастье, мужество и гордая мысль, высоко под облаками раздавался вдруг шум крыльев парящего в вышине бекаса, точно насмешливый хохот, который сулит беду. Образ Гелены пропал в его воображении, даже воспоминание о ней потускнело. Осталась в душе, где-то вне сознания, лишь неясная пустота, орошаемая потоками слез…
Капитан Петр проводил эти дни тоже в полном одиночестве. С утра Михцик выносил ему во двор, под липы, откуда видна была вся окрестность, большое кресло и ставил на маленький коврик. Капитан проводил в этом кресле весь день, глядя сонными глазами в пространство. Его бледное лицо, обрамленное густыми, длинными кудрями, неподвижно опиралось на. руку. Но чаще голова его бессильно откидывалась на спинку кресла, и глаза смотрели в небо. В ветвях вековых лип жужжали рои пчел. Опьяняюще благоухал нежный золотистый липовый цвет. От цветника, где росли рядом хрупкие бальзамины, гвоздика и анютины глазки, доносился запах резеды.
Вдали за прудом виднелись луга, покрытые травой, которую только начинали косить с мельницы, стоявшей в эту пору года, доносился шум воды, которая просачивалась сквозь затворы и словно журчала в немой тишине какую-то вечную повесть. Хозяйство вел Михцик. Под его началом люди выходили на барщину, он наблюдал за батраками и дворовыми девками, смотрел за лошадьми и скотом, за ригами и амбарами, за кухней и кладовой. Он же варил обед.
Деревня, состоявшая из одиннадцати дворов, выставляла напоказ на каменистом красном пригорке убожество своих истлевших крыш и обветшалых стен.
Однажды, в конце июня, Рафал сидел после обеда в тени лип, рядом с братом; он собирался через минуту отправиться на охоту. Ружье стояло подле него, ягдташ лежал под рукой. Он ждал только, чтобы спал полуденный зной. Вдруг собаки, дремавшие на солнышке, подняли головы и начали лаять. За усадебными постройками, на дороге, послышался грохот колес, и вскоре, окутанный клубами пыли, у ворот появился какой-то экипаж. Через минуту во двор въехала пара куцых каштановой масти лошадок в блестящих шорах с гербами, запряженных в богато плакированную открытую коляску. Из коляски выскочил стройный молодой человек. Бросив на руки лакею полотняный плащ, он с изящным поклоном приблизился к братьям.
Читать дальше