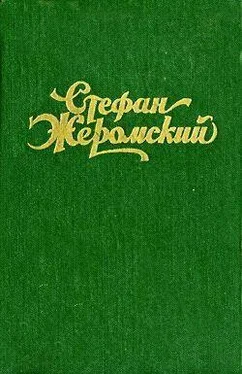Первому соловью, который начал эту песню, ответил издалека второй, второму – третий… К этому трио присоединился четвертый, слившись с ними в неизъяснимом аккорде. Он пел далеко, в прибрежных зарослях.
Это были как бы дозоры, как бы сторожевые отряды чувств, ночные певцы, поджидающие одинокой любви, которая заблудится, проходя той стороной.
Как только начало светать, Рафал разбудил Бинцентия и поехал дальше. Отдохнувшие и накормленные лошади бежали резвей. По правую и левую сторону виднелись деревни и фольварки, выжженные два года назад дотла. На широких черных участках выжженной земли все еще не могла пробиться трава. Валялись груды обгорелых бревен и обугленных стропил. Кругом виднелись разверстые пасти окон, сорванные с петель двери, ставни, болтавшиеся на единственном крюке, потолки, нависшие над обрушившимися стенами, полуразвалившиеся дымовые трубы и остовы печей, засыпанные сухим пеплом. Кое-где на пепелищах поднимались домики, риги, хлевы. Кое-где новый помещичий дом высился между обгорелыми липами, которые, словно черные факелы, бросались в глаза среди зеленых полей. Большая часть деревушек оставалась еще в запустении, погорельцы ютились в шалашах.
Около полудня Рафал миновал Хенцины. Старый, разрушенный замок, черные, растрескавшиеся башни, мертвые стены возносились, как разбитый череп. Приближаясь к месту назначения, Рафал ехал теперь по горам, покрытым лесом. Юноша никогда еще тут не бывал. Он увидел совсем иной край: тихий, заброшенный, унылый. Бесплодные холмы с красноватым грунтом, поросшие соснами или можжевельником, пески на возвышенности, трясины у берегов рек. Они свернули с тракта и до самого вечера ехали по узкой лесной дороге. Корни елей, как змеи, изгибами лежали на дороге, а когда от нее отступали деревья, взору открывалась желтая лента чистого песка с двумя колеями, которые уходили далеко-далеко в лес. Кругом стояли стройные ели, как стрелы, оперенные для более быстрого лета. Зеленый, блестящий весенний мох покрывал их рыжевато-сизую кору. Солнце проникало в глубь леса, и лучи его пронизывали не только чащу ветвей, но и озаряли светом новые побеги. Молодые, мягкие, желто-зеленые иглы были прозрачны, как капли воды. От деревьев на молодую траву падала дивно волшебная, робкая; пугливая и мягкая тень. Казалось, она не выносит человеческого взгляда, существует только для себя и таится, прячется, когда, на нее глядят. Рафал следил за нею из-под полуопущенных ресниц.
Он, как сестра, шептал ей:
– Тень, моя тень…
Розовые, весенние шишки, казалось, плавились и таяли в солнечном тепле. Они источали душистую смолу, и аромат ее струился на землю. Буйная трава еще не успела разрастись в лесу. Почву устилали прошлогодние иглы и сухие листья с их кладбищенскими красками, но кое-где сырая дорога уже сверкала в густой тени изумрудного зеленью. Местами грунт был суше. Там, в чаще пихт, как весенние облачка, курились молодые березки. В глубине леса деревья редели, и виднелись уединенные прогалины, где спокойно дремали озерца неглубокой, стоячей воды. Опавшая с деревьев хвоя толстым слоем лежала на дне их – ярко-желтая, как янтарь. Вокруг озерец буйно разрослась зелень брусники, светло-зеленые елочки плескались в них, как гусята, а жабник со всех сторон охватывал их огненным кольцом. Неподалеку на болоте светились голубые глазки богородской травы и кустики незабудок.
Лошади плелись шаг за шагом. Колеса брички перескакивали с корня на корень или врезались в глубокий песок. Тогда бричка, монотонно поскрипывая, еле-еле подвигалась вперед. Сухой песок пересыпался по спицам, как в песочных часах. Милыми друзьями были для Рафала эти лесные дебри. Юноша чувствовал, что в них он укрылся со своей душой, стал невидимым, что они как бы приголубили его. Тоска, словно невольник на цепи, утомленный долгим гнетом ярма, шла в край, предназначенный ей судьбою, с горестью озирая места, мимо которых лежал ее путь. После плодородных сандомирских полей, где использовался каждый клочок земли вплоть до придорожных рвов, эти забытые леса, растущие на приволье, такие же, как сотни лет назад, такие же, быть может, как на заре мира, были близки его душе, больной от любви. Ему хотелось выпрыгнуть из брички, броситься на землю и остаться одному на долгие дни и долгие ночи, касаться руками только деревьев и губами – только цветов. Слушать, как ветер сонно наигрывает на ветках сосен…
Он был на грани, на пороге понимания удивительной речи этих мелких лесных озерец и деревьев, которые смотрятся в них уже много-много лет, слышал звуки их, шепот и вздох… Он отлично знал, словно сам был своим наставником, что если теперь не поймет их голоса, не уловит его своею душой, то никогда уже, никогда не услышит больше их речи… Он ехал все дальше и дальше, дивясь самому себе, тем чувствам, которые медленно сменялись в нем, живым творческим голосам мира.
Читать дальше