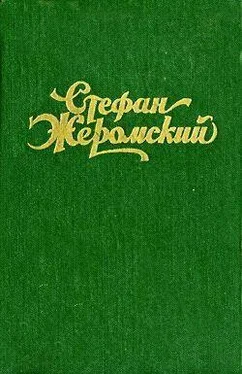Молодой Цедро при утреннем свете показался совсем иным. Он стоял на том же месте, сжав руками спинку стула. Лицо его было бледно и стало как будто тоньше. Волосы взъерошились, как от ветра. Серьезные, задумчивые его глаза не отрываясь смотрели из-под полуопущенных ресниц на солдата.
Неожиданно он вздохнул и сильно вздрогнул. Холодная усмешка скользнула по его лицу.
– Рафал! – громко позвал он, ища глазами товарища.
Тот сидел на низкой скамеечке, бессильно опустив голову на руки. Вяло и небрежно поднял он голову. С выражением какого-то нарочитого презрения произнес:
– Знаю, знаю…
Оба они улыбнулись не то друг другу, не то какой-то новой, незнакомой мысли.
– Ну их всех к черту! – прохрипел Трепка, выходя из комнаты, и с треском захлопнул за собой дверь.
Река Пилица, которой двадцать восьмого ноября тысяча восемьсот шестого года выпала неожиданная честь стать границей между королевством Галиции и шестью бывшими прусскими департаментами, [428]так бдительно и тщательно охранялась пограничными частями, что о переправе не могло быть и речи. Кордоны, расставленные по реке, решительно никого не пропускали, даже легкую почту, и без разговоров стреляли по всем, кто только приближался к берегу. Смельчакам, которые отважились бы тайком пробираться «к полякам», галицийские власти грозили смертной казнью через повешение, что мешало привести в исполнение план, давно задуманный Цедро и Рафалом. Щепан Трепка много рaз ездил на бричке вдоль побережья, осторожно высматривая удобное место для переправы. Он возвращался иззябший, промокший, голодный и злой и ругался на чем свет стоит. Три недели ушло на приготовления и разведку. Наконец в половине декабря было получено секретное сообщение, что на Висле, со стороны Силезии, граница охраняется слабее, по крайней мере кордоны расставлены там не так часто, как на Пилице. Было решено воспользоваться этим обстоятельством и не терять ни минуты времени. Для отвода глаз оба путешественника решили отправиться верхом и со сворой собак, как будто на охоту. Только под Тарновом они должны были сесть в почтовую карету, разыграв легкомысленных юношей, которые спешат в Краков на карнавал. Трепка оставался дома. Он уверял, что слишком стар для такого рода предприятий, и прибавлял еще что-то в свое оправдание, очень ученое, но молодые друзья и слушать его не хотели.
Сказано – сделано. Лошади стояли в денниках, оседланные ночью. Доезжачий Валек со сворой борзых выехал накануне к знакомому охотнику под Тарное. Забрезжил, наконец, холодный, ветреный рассвет…
Порывами налетал ветер с дождем и снегом, и на дорогах по мерзлой грязи цепью тянулись лужи и колдобины, скользкие как лед. Свет не мог вырваться из оков ночи, хотя утро давно уже наступило. Казалось, день никогда не придет… Дымилась и плохо разгоралась комнатная печь. Оба заговорщика суетились в комнатах старого дома, занятые последними приготовлениями. Они были одеты в теплые сапоги и охотничьи куртки. В руках арапники, за поясом охотничьи ножи. За пазухой тщательно спрятан пистолет.
Трепка был зол, раздражен и ворчлив, жаловался на нездоровье и из-за всякого пустяка ругал прислугу. Он сидел в углу дивана и поминутно вскакивал, как будто собираясь открыть какую-то большую тайну… Все кончалось, однако, потоком ругательств, в котором были хаотически перемешаны непечатные польские, французские, венгерские и, может быть, даже турецкие слова.
– Во всяком случае, – ворчал он, – если получите короткий и решительный приказ вырезать клан каких-нибудь кафров или ботокудов, в мнимых интересах поверженной в прах… гм, гм… пожалейте их хоть немного. Просто из шкурных побуждений. Завяжите себе по узелку на концах усов, чтобы не забыть это предостережение. Хорошо ради собственных интересов быть тираном по отношению к соседу, но благоразумно оставить себе хоть скромную лазейку на случай, боже упаси, суда истории. Magistra vitae, [429]понимаешь, Ольбромский.
– Вели подавать завтрак, – перебил его Цедро.
– Хорошо вырвать язык у врага в интересах друга Наполеона, который идет на Берлин, но подарить иной раз кому-нибудь жизнь тоже не мешает. Всем вспарывать животы решительно не советую. Пусть хоть кто-нибудь останется на развод. А вдруг между пощаженными окажется Клопшток, а то и сам Гутенберг.
В последний раз в столовую внесли винную похлебку, и приятели сели за стол. Трепка отодвинул кубок, вышел в свою конуру и вынес оттуда небольшую старую бутылку. Он велел слуге раскупорить ее и налил три рюмки. Подняв вверх свою рюмку, он силился произнести тост, выпить за чье-то здоровье. Долго бормотал он что-то невнятное, но дальше все тех же венгерских и французских ругательств так и не пошел. Его волнение передалось Кшиштофу. Они бросились друг к другу и долго вмолчании сжимали друг друга в объятиях, прежде чем выпили этот тост.
Читать дальше