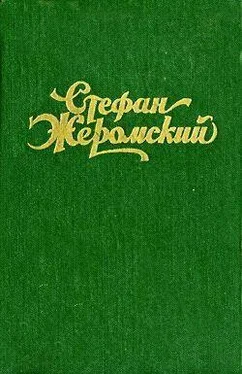Кто же сотворил такую жизнь? Ужели одна рука творит добро и зло? Почему так бессчетно обижен умирающий по сравнению со счастливым Иаковом? Какой небесной наградой можно искупить потерю слабого дитяти, когда оно исчезает с глаз, когда смерть вырывает его из ваших рук? Что может быть горше в подсолнечной этой бездны отцовских страданий? Пустить сына одного в мир, где властвуют крокодилы и скорпионы, на сушу, которая содрогается ст внезапных землетрясений, на море, которое от вихрей обращается в бессмысленного палача… Думать, умирая, что он один пойдет к людям-мучителям, что его, безоружного, окружат коварные, хитрые, тайные, непостижимые немощи – проказа и сифилис, оспа и тиф, – что стократ горше немощей окружат его человеческие преступления, неисчислимые вымыслы подлости, которые стали уже одной из форм жизни, разнузданные страсти и грязь… Думать, что чистыми глазами, в которых заключена невинная лазурь, ребенок будет смотреть на эту борьбу разбойников с разбойниками, что со временем станет лишь одним из толпы…
И сказал себе Фортунат, что отцовство и рождение детей – это зло. Он поклялся, что не хочет иметь сына, что умертвил бы его, рожденного во грехе. Сам он вознесется духом в пустыне, над людьми, сотворит его по образу Ахурамазды и объявит войну тьме. Исторгнет дух свой из трясины грехов человеческих, извлечет его из болот Ангхро-Манью и станет над миром, как вековечный факел…
Рафал не отрывал глаз от страниц книги, но разговор, который хоть и вполголоса велся в его присутствии, мешал ему понимать текст главы «Contra Fortunatum quendam Manichaeorum presbyterum». [323]
Князь, произнося малопонятные для нового слушателя слова, то и дело поглядывал на него своим затуманенным, невидящим, обращенным внутрь взором. На минуту глаза его оживились, и он проговорил уже другим голосом:
– Здесь мы будем мешать тебе разговорами. Тебе, пожалуй, удобнее будет работать в комнате рядом.
Рафал взял в руки фолиант, тяжелый, точно охапка буковых дров, и ушел в соседнюю комнату. Это был рабочий кабинет. Посредине стоял огромный стол, а вокруг него обитые кожей кресла. В открытое окно было видно, как спускается вниз старая грабовая аллея. Рафал прикрыл дверь и сел в кресло. Как только юноша почувствовал, что остался один, его охватила духовная лень, он отдался во власть полному безволию. Голова его опустилась на раскрытую страницу книги, как тяжелый, массивный бесчувственный камень. Ни единой мысли, ни малейшего чувства! Единственное, что могло бы еще его подбодрить и возбудить, – это опять бургундское. Медленно, как душное облако, проплыло в душе тайное желание, не постигнутое еще умом, не осознанное даже, как страсть. Он понимал, что как только покончит с этим латинским переводом, пойдет опять к Яржимскому. Ну что из того, что ночью приходят отвратительные мысли о зле…
Неохотно принялся Рафал за перевод. Работа давалась ему легко, легче даже, чем он ожидал. Привыкнув в школе к софистическим задачам, Рафал не без удовольствия занялся интересным спором блаженного Августина с противниками церкви.
Полдень миновал, и приближался уже осенний вечер, когда Рафал кончил назначенный урок. С каким-то странным чувством отложил он книгу. Ему казалось, что мысли, которые он перевел, ожили и смотрят на него застывшими глазами. Со страниц этого огромного фолианта на него пахнуло только что прошедшею ночью, ее виденьями, ее дыханием.
Листья цвета меди и ржавчины, медленно падая с грабов, тополей и лип, устлали всю аллейку. Они отбрасывали лучи солнца, струившиеся в глубину сквозь новые просветы. Холодом веяло из отдаленной узкой аллейки.
В холодный мартовский вечер Рафал ехал с князем на санях на Мазовецкую улицу, в таинственный «красный дом». Закутанный в медвежью шубу, он все же дрожал от какого-то неприятного внутреннего озноба, сменявшегося жаром. Ему казалось, что лошади бегут слишком быстро, хотелось вернуться, попросить князя проехаться по городу… Еще, еще… Тем временем кучер остановил лошадей на углу улицы, и юноша вынужден был подчиниться необходимости. Он соскочил с саней, сбросил шубу и решительно направился вслед за князем по каким-то темным переходам за воротами. Когда проводник его постучал в первую дверь, ее отворил старый, сгорбленный слуга, снял с них верхнее платье и показал рукой на полутемный коридор, освещенный лишь в глубине пламенем фонаря. Рафал застегнул на все пуговицы черный фрак и прижал к боку шляпу.
Читать дальше