Мишакуй, желая взять реванш за свое недавнее поражение, толкнул Дамжуко:
— Попробуй состязаться с Кудабердоковыми.
— С Кудабердоковыми — нет, — отвечал тот, воздавая должное таланту младшего Кудабердокова.
Дед Пшибий свирепо глянул на сына. Мишакуй повинно опустил голову, понимая, что отец осуждает его за бахвальство.
Зал снова аплодировал.
— Ажагáфу сыграй! — крикнул кто-то.
— Ажагафу! — дружно подхватили все.
Залимгерий не сразу принял заказ публики. Но когда зал принялся скандировать «а-жа-га-фу!», он вышел на авансцену и, подняв обе руки, сказал:
— Сдаюсь!
И вот из-за кулис появился ажагафа — ряженый, в козлиной шкуре, в маске с рогами.
Потеснив воображаемую толпу зрителей длинной палкой, ажагафа очистил место для танца. Он поднял руку — приготовился, сам заиграл на губах мелодию и пустился в пляс. Танцевал ажагафа неловко, неуклюже, в неуверенных нелепых движениях угадывался захмелевший старик.
Еще не стихли аплодисменты, а он уже стал одним из зрителей в толпе. Надменный, солидный, преисполненный собственного достоинства, он с презрением смотрел «мужицкий» танец…
Залимгерий — многоликий ажагафа, в каждой сценке создавал психологически точный, всем понятный образ, характер.
Искусство его протягивало невидимые нити понимания между ним — артистом — и публикой, поэтому легко было понять, отчего Залимгерий был всеобщим любимцем.
…Мы возвращались вместе с Залимгерием. Вечер был теплый. С гор дул легкий освежающий ветерок. Полная луна серебрила улицы, листву, крыши домов.
Мы шли медленно. Залимгерий беседовал с Леонидом Петровичем. Я прислушался.
— До революции культура наша была подобна побегу, придавленному валуном, — говорил Залимгерий. — Знаете, у нас в горах бывают такие ливни, которые, как щепку, смывают с места огромные камни. Освободившись от гнета, побег постепенно оправляется, потом начинает буйно расти, удивляя мощью и яркостью цветения. Так и социалистическая революция освободила угнетенные народы, пробудила их к новой жизни. А новая жизнь требовала знаний, культуры. И вот тут культура русского народа сыграла поистине великую роль. Всем нам она стала аталыком, полным любви и заботы…
Мы подошли к дому. Залимгерий сказал, что завтра уезжает, и попрощался.
— Мне надо поговорить с тобой, — сказал я ему.
— Пожалуйста. Время еще не позднее, идем к нам.
Во дворе, под яблоней, на скамейке сидел Мишакуй. Был он в преотличном настроении.
— Эй, владычица! — крикнул он жене. — Накрывай стол, да поскорее.
Залимгерий поспешил на помощь матери.
— Ну, что скажешь? — обратился ко мне Мишакуй.
— О чем?
— Чтоб тебя болезнь живота поразила! «О чем, о чем»! — передразнил он меня. — О Кудабердоковых, о Залимгерие, о его отце, ты должен всех их показать в музее.
— Достойный и уважаемый род Кудабердоковых имеет интересную историю и тяжелую судьбу, он занял место в нашем музее. А что касается твоего сына — народного артиста Залимгерия, нет ему равного во всей республике.
Мишакуй, довольный ответом, принялся наставлять меня: во-первых, «чтоб в музее не было ни единого слова о Дамжуко»; во-вторых, ни в коем случае не упоминать, что Пшибий был лишен собственного имени и был прозван Хафицей; в-третьих, я должен был дать слово, что никому не скажу о его — Мишакуя — согласии передать мечеть под музей.
— А обо мне, — закончил Мишакуй, — ты напишешь, что я одним из первых вступил в колхоз и поставил его на ноги…
— Постой, — перебил я его, — ты же не работал в колхозе, ты был сельским пастухом!
— А чтоб тебя болезнь живота поразила! — возмутился Мишакуй. — Да если бы я не освободил людей от забот о своих коровах, разве они могли бы хорошо работать в колхозе? Соображать надо, слава аллаху, ты уже не маленький!
Спорить с Мишакуем бесполезно, но я и не поддакнул, промолчал. Это его насторожило, и он потянулся к папахе, чтобы пересадить ее с правой стороны на левое ухо — верный знак, что он сейчас начнет спорить.
Но тут подошел Залимгерий и пригласил нас к столу.
— Я нарушу обычай, поднимая первый тост за сына, — сказал Мишакуй, — пусть люди простят меня. Я делаю это в торжественный для моей души вечер, когда впервые за долгие годы чумазый Дамжуко признался в своем поражении. — Мишакуй оглядел нас ликующими глазами. — Наконец-то! Свершилось великое дело! Там, в клубе, когда ты выступал, мой сын, я предложил Дамжуко попробовать состязаться с Кудабердоковыми. Тут-то он и поднял лапки: «Не могу». За тебя, сын, за то, что осчастливил меня и возвысил свой род.
Читать дальше
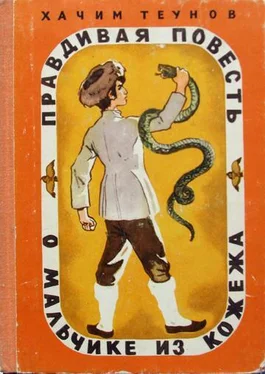


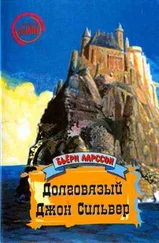



![Дэвид Шефф - Красивый мальчик. Правдивая история отца, который боролся за сына [litres]](/books/438369/devid-sheff-krasivyj-malchik-pravdivaya-istoriya-otc-thumb.webp)



