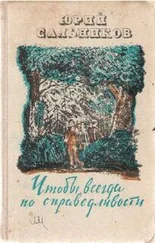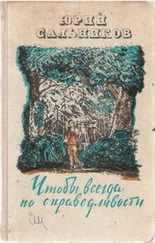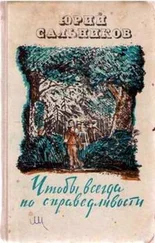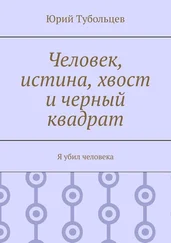И думала я опять о Дине и о Ларисе.
Им обеим сейчас хуже, чем мне. Черпаковой потому, что она — как в пропасти. Лежит на жестком каменистом дне, шмякнувшись с высоты, перекалеченная, стонет от боли в отчаянии. А Нечаева застыла у обрыва — вот-вот тоже рухнула бы вниз, да удержалась и смотрит сверху на поверженную Динку с испугом. По легкомыслию своему тянулась она к Динке, то играя во взрослую хозяйку, принимающую у себя гостей, то усматривая в ее распущенности чуть не образец для собственного поведения. А теперь-то небось присмирела, когда на полном бегу едва зацепилась на краю обрыва, ощутив, что могла бы и сама оказаться там, где валяется сейчас Дина.
Нет, я не ставила себе в заслугу, что удержала Ларису. В конце концов, Динкина истерика могла разразиться без моего присутствия. Рано или поздно — это обязательно бы случилось на глазах Ларисы. И независимо от моих усилий — оторвать Ларку от такой подружки — ее жизнь повернулась бы к лучшему, я так считаю. И все-таки, думая сейчас о них обеих, я невольно перебирала в памяти собственные попытки помочь Ларисе. Пусть я достигла малого и тот же Леонид Петрович или просто определенные обстоятельства помогли ей куда больше, я все же старалась не зря.
И если бы пришлось начать сначала, я повела бы себя точно так же, даже зная, что расплатой за это будут фотофальшивки. Потому что пусть мстит мне кто хочет — и Сирота, и Динка, и вся их шатия! — я для всех для них враг, — ну и пусть, все равно не отступлюсь от Ларисы, как она сейчас не отступается от меня, а помогает, стараясь вывести этого Сироту на чистую воду.
Обо всем этом хотела я написать в дневник, но, пока сидела и соображала над белым листком, в прихожей мелодично и нежно пропел звонок: кто-то явился.
Зинуха или Лариса? Я подлетела к двери, и не спрашивая ничего, распахнула ее и… Нет, конечно, от неожиданности не умирают. Но несомненно — каменеют. Я закаменела. Передо мной стоял Бурков.
— Здравствуй, — пробасил он глухо, переминаясь с ноги на ногу. С него стекала вода: мокрая куртка, мокрая кепка-баран, грязные ботинки. — К тебе я.
Этого можно было не говорить — ясно, не к родителям. Он помолчал.
— Выйди на минутку.
— К-куда? — Я обрела наконец дар речи, хотя и не полностью.
— Ну, сюда. — Он бросил настороженный взгляд в глубь квартиры, и я поняла: стесняется войти не только потому что мокрый и грязный, но и потому прежде всего, что не хочет говорить при моих домашних.
Я отступила на шаг:
— Входи. Никого нет.
Он вошел и остановился у самого порога, по-прежнему переминаясь с ноги на ногу, и снял кепку, не глядя на меня.
— Я ненадолго.
Мы стояли друг перед другом и молчали — он хмурился, сводя брови-спичечки на переносице, уставившись глазами в глухую стенку прихожей, а я смотрела на него и ждала, что он скажет.
И он сказал:
— У тебя «Господа Головлевы» есть?
— Хочешь прочитать?
На днях Юлия предупредила нас, что вслед за Некрасовым мы начинаем изучать Салтыкова-Щедрина — готовьтесь, читайте. Вот, значит, Бурков и забеспокоился. Похвальное рвение. Только похоже — это примитивный ход. Я вспомнила, как в день моего рождения так же, стоя на этом месте, лепетал Ясенев-Омега: шел мимо, заглянул случайно. Велика у мальчишек охота темнить! Нет чтобы сразу признаться: пришел потому-то. Непременно сочинят какую-нибудь дурацкую причину.
Я вынесла книгу. Н. Б. взял ее, даже не взглянув. Вид у него был необычный. Не то смущен враньем про книгу. Не то мучает еще что-то.
— Послушай. — Басок вибрировал, срывался. Глаза все также упирались в стенку. — Ты на меня не сердись, ладно?
— Я?
— Ну, бывает ведь. Сотворишь. А потом сам не рад. Так что не сердись.
— Да за что?
— За все. — Он впервые посмотрел прямо на меня, и я подметила в его глазах такое страдальческое выражение, что мне сделалось не по себе. А он громко повторил: — Ну, за все, за все, поняла? — И ринулся из квартиры, с силой захлопнув за собой дверь, затопал по лестнице вниз, я слышала, как тяжело удаляются его шаги.
Я стояла опять закаменелая, не пытаясь остановить или окликнуть Буркова, отгороженная от него не только звонко щелкнувшей замком дверью, но и стремительным потоком мыслей, которые захлестнули меня. Зачем он приходил? За что извинялся? За грубость вчера на улице? За свои приставания? За неуважительный тон и оскорбления раньше, в классе? «За все, за все, поняла?»
Нет, я ничего не понимала. Стояла уже у окна в комнате, глядела, как заливает неприютную улицу дождь, как бегут по стеклу расплющенные капли шустрыми змейками, и не могла понять, зачем Н. Б. приходил, не побоявшись даже такой погоды, весь вымокший…
Читать дальше