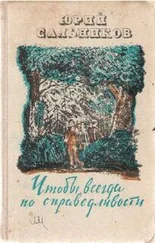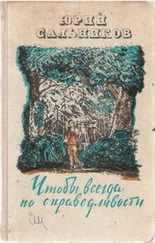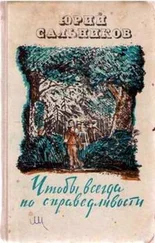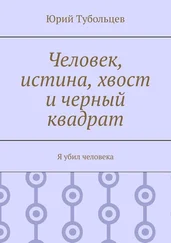Конечно, не так, но из всего, что за последнее время сделала я плохо, самым мерзким было именно это.
Ларису не смогла увести и отнять от Динки — от бессилия.
С ребятами и с Маратом не посоветовалась о Нечаевой — из гордости.
А с ним? Отчего с ним-то? Разве и у меня — любовь? А не просто ли глупость, глупый интерес, девчоночье любопытство? Не устояла, потянулась — для своего удовольствия, потеряв и волю, и разум, и гордость. Значит, сама я мерзкая, гадкая, безвольная.
— Что дуришь, говорю? — Он шел за мной по пятам, пытаясь еще остановить, но я прибавляла шаг, и он опять схватил меня за руку, тогда я оттолкнула его и побежала.
— Ну и дура! — крикнул он, внезапно обозлившись. — Что строишь из себя? Подумаешь, цаца! Да у меня навалом таких, как ты! Подумаешь, катись, катись!
Он грубо бросал слова, тяжелые, как булыжники, — в слепой ярости, наотмашь, швыряло их в мою спину разъяренное его самолюбие, они били одно сильнее, другого…
И поделом тебе, Кулагина, получай, получай, так и надо, несчастный детсад ты, козявка, пигалица!
Он кричал, разгневанный тем, что я, — даже я! — отвергла его, такого великолепного, неотразимого, и не было у него ни благородства, ни достоинства, ни великодушия, чтобы не оскорбить ту, с которой минутой раньше намеревался он провести ласковый вечер. Вот цена его чувствам, мера его рыцарства, глубина жестокости. Но это и моя цена! Цена моей глупости…
Я бежала, а слезы застилали глаза, и сквозь их зыбкую пелену, будто в тумане, я не различала дороги, натыкаясь на встречных, и бежала все быстрее, низко склонив голову, чтобы никто не заметил, как плачу. На безлюдной набережной я опустилась на скамейку и тут уж дала полную волю слезам, нещадно казня себя, и проклиная, и жалея.
С первых робких мечтаний о будущих радостях жизни девчонки как главный зарок, как самую великую клятву произносят чуть ли не с детства откуда-то услышанные слова: «Без любви не дари поцелуя». Путеводной звездой для каждой из них горит эта клятва на пороге неизведанной дали взрослого счастья. И разве не горько осознавать, что ты нарушила эту клятву, что недостойным оказался первый избранник, кому позволила ты впервые прикоснуться к твоим губам?
Я оплакивала утраченный миг первого поцелуя, который, как святыня, мог принести мне радость, а принес стыд и мучительное страдание. Но в этом никто не виноват, никто, кроме меня, только я сама, и никто другой…
«Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому».
Я тоже много раз в жизни давала бесчисленные зароки — важные и не столь важные, и нарушала их много раз. Но разве сравнишь все с забвением этой главной девчоночьей клятвы: «Не дари без любви…»
Я поняла наконец, отчего у меня с утра жуткое настроение, такая апатия и недовольство собой.
Но теперь все, все, все, мысленно твердила я, внушая себе, что надо успокоиться и забыть о случившемся. И главное — навсегда вырвать из сердца, забыть Николая Буркова и его грубые слова, которые он бросал мне сейчас, стараясь как можно больнее обидеть. «Все, все, все!» — говорила я вслух, будто ставила на прошлом печать, которая поможет сохранить в тайне от мира, от всех людей — даже от самых близких! — незримый мой стыд, и собственную ошибку, и это по заслугам венчающее ее бурковское поношение.
Сделалось темно, зажглись матовые шары вдоль пустынной набережной, замелькали слабые огоньки редких домиков на противоположном берегу, смолянисто-черная вода в реке будто застыла, густая и вязкая. Я почувствовала, что замерзла. Домой не хотелось: дважды из конца в конец измерила набережную, потом бездумно свернула в какой-то переулок. И неожиданно для себя очутилась перед Ларисиным домом.
Во всех окнах горел яркий свет. Немного постояв в нерешительности, я стала подниматься на третий этаж.
В квартире у Ларисы был полнейший беспорядок, как при генеральной уборке, — мебель сдвинута, ковры свалены в углу кучей, в ванне булькала вода, в кухне шипела газовая горелка. Вдобавок во все горло орало радио, а в руках у Ларисы рычал пылесос. Мудрено ли, что мои звонки не были услышаны, пришлось барабанить кулаками. Но и после этого дверь открылась не сразу.
Лариса, как Золушка — в затрапезном фартуке, босая, впустила меня вроде с опаской, заглядывая за спину: нет ли еще кого? И торопливо щелкнула замком, да еще и другим — этого, нового, я раньше и не видела.
— Надоели, шастают, — объяснила она, усаживаясь рядом со мной на тахту, с которой было содрано тут же комом брошенное покрывало. — Сироту Леонид Петрович к себе вызвал. — Я вспомнила, как Гвоздилов смеялся над чернявым, пророча, что инспектор Лепко доберется до него, тунеядца, и «прижучит». Добрался, значит. — А Сирота разозлился, — продолжала Лариса и, поймав мой взгляд, перескочила на другое: — Видишь, затеяла к мамулиному приезду.
Читать дальше