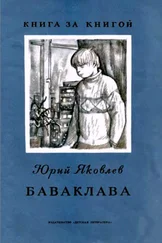Она возвращается в дом. Отряхивает с кожуха снег. Подходит к скамье и садится рядом с Надеждой Константиновной.
— Он всегда был смел и отважен, — говорит Надежда Константиновна, продолжавшая думать о Владимире Ильиче.
И вдруг ее память воскрешает первую встречу с Ильичем — на конспиративной вечеринке с масленичными блинами, у инженера Классона…

Усы, небольшая клиновидная бородка, темно-карие глаза, в уголках глаз морщинки… Надежда Константиновна начинает рассказывать Верочке про молодого Ульянова, который — смешно! — слыл сухарем, знал-де только Маркса и, как говорили, за всю жизнь не прочел ни одного романа.
— Я была молоденькой учительницей воскресной школы, стеснительной до крайности. И решила заставить «сухаря» прочесть хотя бы «Отцы и дети» Тургенева. Взяла в библиотеке книгу…
— И заставили? — нетерпеливо спрашивает Верочка.
— Опозорилась! «Сухарь», оказывается, еще в гимназические годы прочел всего Тургенева! Очень любил литературу, музыку… А потом мы стали друзьями, товарищами по революционной борьбе.
Потом его арестовали…
И Надежда Константиновна рассказывает, как она приезжала на Шпалерную улицу, гуляла по тротуару, а он смотрел на нее из окна тюрьмы. Однажды она три дня приходила кряду, а охранники не выпустили его в тюремный коридор, где было окошко на улицу.
Надежда Константиновна улыбается своим мыслям, своим воспоминаниям. А Вера не спускает с нее глаз, словно хочет проникнуть в глубину ее памяти.
— Потом я получила письмо, написанное «химией».
— Химией? — удивилась Вера.
— Ну да, обычно письма на волю он писал между строчек какой-нибудь книги молоком, а чернильницы лепил из хлеба. Когда появлялся надзиратель, приходилось спешно глотать «чернильницу». Однажды Ильичу пришлось съесть шесть чернильниц подряд. И вот я получаю книгу, провожу по страницам горячим утюгом — и вместо текста листовки, которого я ожидала, возникают необычные, неожиданные слова: «Прошу стать моей женой». Потом мы с мамой ехали в Шушенское, к Володе, в ссылку. Через всю Россию. Я везла в подарок зеленую лампу. Счастливое было время…
И вдруг в лесной школе нетерпеливо зазвенел колокольчик. Обе женщины поднялись. Младшая бросилась к двери, старшая поспешила за ней, на ходу поправляя волосы.
Дверь распахнулась. На пороге — человек в шинели.
— Павлик! — крикнула Вера.
— Я — Кулагин, — представился неожиданный гость и вошел, затворив за собой дверь. — Где Воротников?
— Он узнал, что к нам едет товарищ Ленин…
— Товарищ Ленин? А нам ничего не известно! — воскликнул Кулагин и даже покраснел от возбуждения.
— Павлик поскакал ему навстречу. Он очень спешил… Павлик…
— Да какой Павлик! Сотрудник милиции Воротников! — жестко поправил Кулагин.
— Он ее родной брат, — пояснила Крупская.
Кулагин резко распахнул дверь.
— Я поскачу за ним. Конь у вашего крыльца мне не нравится!
— Почему ему не нравится конь у нашего крыльца? По-моему, очень хороший конь, — говорит Вера.
Надежда Константиновна старается не смотреть в глаза девушке.
А в это время сотрудник рабоче-крестьянской милиции Воротников лежал в сугробе с перебитой пулей рукой. Рядом с ним на снегу был четко отпечатан ребристый след автомобиля.

Ревел ветер, перемешанный со снегом.
Владимир Ильич все-таки распорядился остановить автомобиль, и тогда на подножки вскочили вооруженные люди, распахнули дверцы.
— Выходи! Быстро! Быстро!
Первым заговорил Ленин:
— В чем дело, товарищи?
Он думал, что имеет дело с патрулем и что сейчас все уладится.
— Без разговоров! — оборвал его худой, скуластый человек в шинели. В маленькой костистой руке он держал наган.
Черный глазок нагана смотрел острой пустотой. Он был очень близко от сердца. И Владимир Ильич вспомнил булыжную мостовую перед заводом Михельсона, невысокую женщину с тонкими губами и птичьим носом.
Почему она сейчас возникла в памяти? Ах да, из ее рук смотрел такой же холодный глазок револьвера. А потом глазок мгновенно наполнился огнем, грохотом, болью…
Владимир Ильич почувствовал, как заныло левое плечо, раненное в тот августовский день, и подумал: «Обидно погибнуть от пули бандита».
Читать дальше




![Юрий Яковлев - Мой верный шмель [Рассказы]](/books/26879/yurij-yakovlev-moj-vernyj-shmel-rasskazy-thumb.webp)