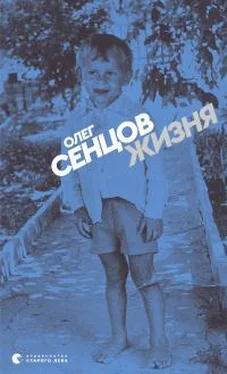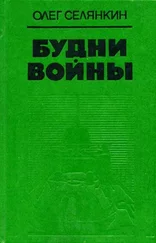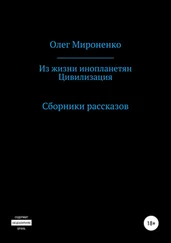Когда мне было 20 лет, умер отец (только спустя десять лет могу про это говорить). Веселая жизнь кончилась. Подрабатывал лет с 13-ти постоянно, теперь пришлось зарабатывать. Работал на рынке. «Гербалайф» — год разводил людей на деньги. Занялся бизнесом с другом. Одолжил много денег — влетел, друг пропал. Я выжил — 96-й год.
Работал администратором в компьютерных клубах, затем менеджером в них же. Увлекся киберспортом. Четыре года профессионально играл в сетевые компьютерные игры. Выступал на чемпионатах, чемпион Украины. Поездил. Создал свою киберкоманду, сайт, собрал вокруг себя единомышленников, являюсь лидером кибердвижения Крыма.
Последние полтора года посвятил себя открытию крупнейшего Интернет-центра в Симферополе. Открыл. Прибыльно.
В 20 лет очень хотелось много денег — их не было и никак не получалось их заработать. К 30-ти мировоззрение поменялось полностью, и деньги занимают теперь далеко не первое место в моей системе ценностей, — а они пришли… Наверное, так и должно быть. Не знаю.
О личном немного: более десяти лет живу с одной и той же женщиной, женат на ней же. Двое маленьких детей от нее же. Люблю всех.
Киношником никогда стать не мечтал. Но с детства люблю кино. Хорошее. Чем старше становился, тем сильнее развивал свой художественно-кинематографический вкус — причем, как всегда, самообразованием. Чем больше я рос над собой, тем сильнее сужался круг людей, с которыми я мог говорить о кино. На сегодняшний день это два-три знакомых мне человека.
Книги читал всегда. И много. В школе писал сочинения. И всегда на «отлично». После вливания в киберспорт начал писать о нем публицистические статьи — мысли переполняли, удержаться не смог. А, как говорил многоуважаемый лично мною Михал Михалыч, «писáть, как и псать, надо лишь тогда, когда больше нет сил терпеть» . Сил терпеть у меня не было, а силы писать были. Вначале все получалось довольно криво, но весело. После десятка статей отточил технику и выработал свою манеру. Написал пару десятков рассказов или эссе — сам даже точно не знаю. Сейчас пишу книжку.
Хочу снимать кино. Снова переполняет, а бумага не так выразительна, как кинопленка. Пытаюсь поступить на режиссерские курсы. Эти вроде хорошие. Не поступлю — буду пробиваться так, сам, без подготовки, — не впервой.
Не люблю Гребенщикова, но он однажды сказал хорошие слова в ответ на вопрос о его музыкальном образовании: «30 лет слушанья музыки и 20 лет ее исполнения». Я уж 30 лет смотрю кино — пора двигаться дальше.
В детстве я хотел иметь собаку. Овчарку. Непременно немецкую. Я видел их довольно много в кино, парочка имелась и в нашей Деревне. Я хотел иметь свою . Ходить с ней гулять, дрессировать. Чтобы я шел с ней по улице, а на меня все смотрели. Чтобы она слушалась меня, и мы друг друга любили.
До этого у меня уже была собака. Точнее, не у меня, а у нас, у семьи. Звали ее совершенно не геройски — Тузик. Это была черная дворняга, средних размеров, прибившаяся к нашему двору. Предыдущая часть жизни Туза (я так называл нашего пса, пытаясь придать ему значимость, в первую очередь, в своих собственных глазах) была не шибко сладкой — судя по всему, его крепко бивали и часто обижали. Первую неделю жизни у нас он сидел в своей будке и не выходил даже поесть. Он был так рад, что его никто не трогает, и поэтому еду мог запросто менять на покой.
Потом Тузик отошел, и мы все привязались к нему, — мне было лет девять-десять тогда. Я ходил с ним гулять, в лес и в поле. Я водил его на веревке. Дома он сидел на цепи, а на ночь его отпускали, и он бегал во дворе или даже на улице, никого не трогая. Туз был очень умным, послушным и добрым. Но пережитое в прошлом навсегда отразилось на его морде. Говорят, что пережитая жизнь отражается на лице человека. Да, это так. Но собачья жизнь тоже отражается в собачьих глазах. Глаза этой черной дворняги были грустны уже навсегда.
Прошло несколько лет, и вот в одно обычное утро мама разбудила меня, села на край моей кровати и сказала, что Тузика убили. Ездили, отстреливали бродячих собак, и его застрелили, рано утром, на улице, прямо возле ворот его дома. Мама предложила поплакать, чтобы стало легче, но я не смог. Мне не верилось. Нет, я понимал, что его застрелили, но я не верил, я не понимал.
Так всегда бывает. Между тем, когда тебе скажут, что кого-то близкого уже нет, и тем, когда ты это поймешь и ощутишь потерю, всегда проходит какое-то время. Так было не раз. Когда мне исполнилось двадцать, и приехал человек, и сказал, что мой отец умер, первое, что заполнило весь разум, — «этого не может быть». И даже когда через час я увидел его, как будто спящего, не было ощущения потери. И когда на следующий день его в гробу выносили из дома, где-то кольнуло, но не выжгло. Второй раз кольнуло, когда человек на кладбище, после команды родным проститься с покойным, дал команду закрывать гроб, и крышку с уже торчащими в ней гвоздями начали глухо, очень глухо заколачивать на место… И глубокая, с валяющейся в ней пустой, распитой и забытой копальщиками бутылкой, могила.
Читать дальше