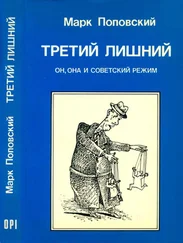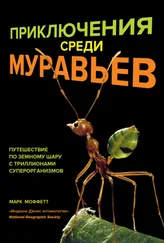…Ларису Рейснер и ее мужа Вавилов в кабульском постпредстве уже не застал. Первого советского посла РСФСР сменил Леонид Николаевич Старк. Они сразу понравились друг другу - ученый и дипломат из старой большевистской гвардии. Старк многое сделал для успеха экспедиции: хлопотал о проезде в «запретные» районы, заботился об экспедиционной страже, о транспорте, даже вывозил Вавилова на своей машине в ближайшие к столице районы, где ученый вел розыски растений. Много раз потом, скитаясь по странам мира, поминал Николай Иванович добрым словом заботливого посла. А когда в 1929 году вышел их совместный с Букиничем труд об Афганистане, авторы посвятили его Л. И. Старку.
В Кабуле пришлось задержаться на две недели. Лариса Рейснер оставила блестящее описание столицы и придворного быта. Профессор Фуше и его супруга тоже очень скоро оказались вхожи в семью повелителя Афганистана. У Вавилова оказались иные вкусы. В городе его занимал главным образом зерновой базар. Старка он просил ни в коем случае не представлять его эмиру, но непременно добыть для экспедиции пропуск на восточную границу. А пока чиновники министерств иностранных и внутренних дел обменивались по поводу приезда русского ученого витиеватыми посланиями, именуя друг друга не иначе, как «мой нежный», «мой грациозный», сам виновник переписки поскакал на пшеничные поля Кабульской долины.
Ему повезло: в этом высокогорном оазисе уборка урожая лишь недавно закончилась. В полях оставалось еще полно хлеба. Несмотря на пышно-восторженный тон, «География Афганистана» действительно оказалась близкой к истине: земля Кабульского оазиса бесконечно дорога. Земледельцу здесь собственными руками приходится создавать свое поле. Чтобы настлать пахотный слой хотя бы в 15 - 20 сантиметров толщиной на одной десятине голого речного галечника, надо привезти 400 ку-
бических саженей земли. Земля - драгоценность, земля - богатство. Люди копошатся у разрушенных земляных построек и древних развалин, кирками выдалбливают из горных осыпей тонкие землистые прослойки и увозят свою добычу на дальние поля.
Букинич попытался высчитать, сколько сотен раз медлительный ослик должен принести свою поклажу, прежде чем на голом камне возникнет пригодное для посева поле. Вавилова интересовало другое: он поспешил к стогам и горкам обмолоченной пшеницы. Так и есть, кругом полно зндемов - ботанических форм, которых нет нигде, кроме Афганистана. Николай Иванович едва успевает складывать в мешочки образцы и подписывать картонные бирки. Нигде - ни в Бухаре, ни даже в Персии - не приходилось ему видеть такого количества разновидностей мягкой пшеницы. Что ни поле, то новая форма. Да и на одном поле можно сыскать иной раз десять - двадцать вариантов. Вот карликовая пшеница - тритикум компактум - с узловатым колосом и короткой соломой, такой не знала до сих пор наука. У этого пшеничного гнома на редкость прочная солома и тяжелый колос, упорно противоборствующий копытам молотильщиков-быков. Озорная мысль вспыхивает в глазах Николая Ивановича: отныне упорство карликовой пшеницы будет закреплено в ее названии: одну из редких разновидностей тритикум компактум он назовет именем упрямого Букинича.
Вечером комнаты, отведенные в постпредстве для гостей, напоминают нечто среднее между зерновым базаром и гербарием ботанического сада. Забыв о своих дипломатических обязанностях, Леонид Николаевич Старк увлеченно слушает пылкую речь Вавилова. Ученый возбужденно перебирает мешочки, пучки колосьев, пакеты. То, что удалось найти вокруг Кабула, намного перекрыло самые смелые его мечты. Всего лишь полгода назад, незадолго перед отъездом из Советского Союза, послал он в журнал статью о не разысканных еще растительных богатствах Востока. «В то время как в житнице России на юго-востоке в Самарской, в Саратовской губерниях возделывается шесть-семь разновидностей мягкой пшеницы, в Персии, в Бухаре, в Афганистане число разновидностей превышает шестьдесят», - писал он тогда. Афганистан был ведом ему только по книгам. Теперь можно говорить уже о более чем ста разновидностях карликовой и мягкой пшеницы! Тут у вас «пекло творения» номер один, - возбужденно выкрикивает Николай Иванович, - родина главного хлеба земли, мягкой пшеницы - здесь или где-то совсем близко…
Вот когда самое время поспорить с профессором Фуше. Французский археолог считает, что человеческая культура в Афганистане ограничена двадцатью пятью веками. Но разве открытие множества культурных форм пшеницы, форм, выведенных человеком, не свидетельствует против его теории? Вавилов убежден: в долинах Афганистана хлеб возделывался за многие тысячи лет до легендарных персидских царей и походов Александра Македонского. Пускай заступу и лопате археолога не удается пока обнаружить следы древнейшей цивилизации, это не случайно. Ибо речь идет о цивилизации пахарей, а не горожан, о культуре бедных земледельцев, возводивших вокруг немудреных своих посевов земляные дувалы, а не каменные цитадели. Независимо от того, смогут ли когда-нибудь археологи разыскать остатки древнейшей сельскохозяйственной цивилизации, ее уже сегодня обнаружили растениеводы по изобилию и разнообразию сугубо местных культурных растений. Пекло творения - не дар небес, богатство местных сортов и форм пшеницы - дело рук сотен поколений афганских земледельцев.
Читать дальше


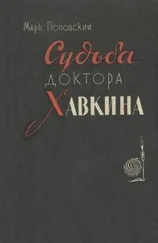
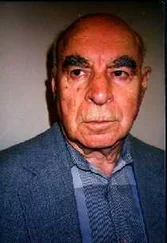
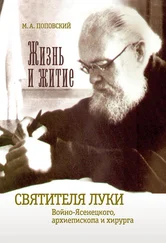
![Марк Поповский - «Мы — там и здесь» [Разговоры с российскими эмигрантами в Америке]](/books/432316/mark-popovskij-my-tam-i-zdes-razgovory-s-ros-thumb.webp)