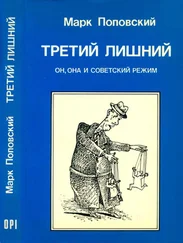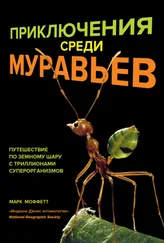Вавилов обратился к владельцам посевов, и они, сердито пиная ржаные кустики, именовали их не иначе, как бранным словом «так-так». Точно так же в их языке обозначался и другой злостный сорняк - овсюг. То же самое подтвердили и торговцы в зерновом ряду гератского базара, где Вавилов наполнял образцами местного зерна свои бесчисленные мешочки: они называли рожь «гэндум-дар» или «чжоу-дар» - растение, терзающее пшеницу. Значит, рожь в здешних местах действительно сорняк!
Еще в 1916 году в Бухаре и Таджикистане Николай Иванович встречал засоренные рожью пшеничные посевы, но тогда он не придал своему наблюдению большого значения. Теперь этот агрономический «пустяк» обернулся крупным открытием.
В России, в Германии, в Скандинавии, где рожь занимает огромные площади как главный хлеб страны, она тем не менее удивительно бедна разновидностями. Точнее даже сказать, в Европе и Сибири сеют одну-единственную, так называемую вульгарную, обыкновенную рожь. Обилие форм, обнаруженных под Гератом, - верный признак, что родина ржи здесь, в, Афганистане, в стране, где ее презирают как сорняк. Тут рядом с формами, вполне культурными, Вавилов обнаружил неизвестную прежде рожь-дикарку, которая при созревании рассыпает, рассеивает свой колос. Находка саморассеивающейся ржи особенно обрадовала ученого. Дикарь был как раз тем звеном, которого до сих пор не хватало науке, чтобы постичь историю происхождения ржи. Теперь биография ее была для Вавилова ясна, и биография эта оказалась неразрывной с судьбой… мягкой пшеницы. Мягкая пшеница (тоже здешняя, афганская уроженка), расходясь по свету, повлекла за собой свою спутницу рожь. Нет пророка в своем отечестве: для Афганистана местная уроженка рожь - сорняк, но, двигаясь вместе с пшеницей на север, рожь постепенно приобретала уважение людей. Правда, саморассеивающиеся формы ее вскоре отстали от пшеницы, по более культурные разновидности, те, что умеют хранить зерно до обмолота, упорно двигались все дальше и дальше на север. В конце концов они вынудили земледельца сеять озимую пшенично-ржаную смесь на тот случай, если мороз не пощадит теплолюбивую пшеницу. Такая смесь - «суржа» - не раз спасала хлеборобов Северного Кавказа от голода и в конце концов заставила их смириться перед наглой настойчивостью южной пришелицы. А на какой-то еще более северной параллели, где пшеница, не выдержав холодов и дурных почв, окончательно отступила, рожь осталась в чистых посевах. Бывший сорняк, дикарь, одолев свою жертву, стал культурным растением.
Так на полях Герата одному наблюдателю открылся красивый пейзаж, а другому удалось подсмотреть секрет природы, открыть происхождение и историю ржи - кормшшцы миллионов. Будем, однако, справедливыми к женщине из тахтаравана. Она была не только «хануми сафир-саиб» - женой посла. Рано умершая Лариса Рейснер осталась в отечественной литературе автором страстных публицистических очерков о революции и гражданской войне. Живо интересовали ее в чужой стране и зрелища городской жизни, и красоты природы, и механизм общественных отношений. Николая Ивановича Вавилова тоже не обвинишь в недостатке любопытства. В его записных книжках описание сельскохозяйственных орудий соседствует со стихами афганских поэтов, рассказ о покрое местных нарядов - со сведениями из лингвистики и истории края. Но, как не раз уже бывало, писатель и ученый увидели одну и ту же страну разными глазами. В воспоминаниях Рейснер Герат так и остался прелестным миражем среди пустыни. Вавилов же провел в благословенной долине Герируда две недели и не побоялся в описании оазиса прибегнуть к весьма решительным выражениям.
Бело-зеленый город, который они увидели впервые с вершины дальнего холма, оказался мало похожим на подлинный Герат. Спустившись вниз, путешественники очутились на узких, немощеных улицах, где прохожему каждую минуту грозило окунуться в одну из открытых солнцу и мириадам мух сточных ям. На более просторных перекрестках ямы вырастали в заросшие водорослями прудики. Эти многократно воспетые восточными поэтами «зеленые озера Герата» источали такое зловоние, что непривычные европейцы, зажав носы, спешили поскорее покинуть улицу. «Красивый издали город… - записал Вавилов, - представляет чудовищную картину антисанитарии… как бы свидетельствуя о противоречии, существующем между «цивилизацией» и земледельческой культурой».
Противоречие было действительно разительным: на полях Герата, невзирая на тесноту, господствовали абсолютный порядок и чистота, а обилие плодов гератской земли изумило даже ученых-растениеводов. На маленьких, порой в два джериба (треть гектара), участках жители взращивали пшеницу, ячмень, просо, кукурузу, рядом росли конские бобы, кунжут, лен, опийный мак, хлопчатник, табак. В столь же тесных садах плодоносили абрикосы, яблони, груши, слива, инжир, гранат, персик. В окруженных земляными дувалами огородах богато удобренная земля родила огромные баклажаны, гигантские тыквы. Вместе с привычной для глаза редькой, огурцами и луком находилось место для излюбленных приправ восточной кухни - мяты, кориандра, тмина.
Читать дальше


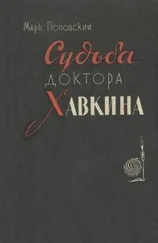
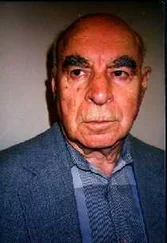
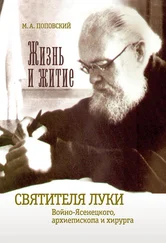
![Марк Поповский - «Мы — там и здесь» [Разговоры с российскими эмигрантами в Америке]](/books/432316/mark-popovskij-my-tam-i-zdes-razgovory-s-ros-thumb.webp)