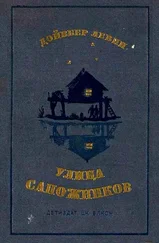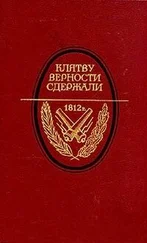— Редкий у него, у гада, конь, — виновато сказал Никита. — Такому коню цены нет. Зверь.
Сорока лежал, закинув голову, открыв рот, неподвижный и прямой. Было не понять: дышит он или не дышит, жив он или не жив? Если бы его самого спросить и если бы он говорить мог, он бы, верно, и сам не знал, что сказать. Два часа назад или два дня назад, давно это было, когда его тут, в сарае, допрашивали и били, — было больно, очень больно было. А теперь вот нет боли. И злобы нет. Ничего нет. Он глядит широко открытыми глазами прямо вверх — прямо вверху крыша. — но он не видит крыши, он видит небо. Он видит небо и солнце на небе, и птицы летают, и деревья цветут, и течет река, родимая река, Кубань.
Эй д’над Кубанью, родимой стороной,
Ворон вьется сизый.
Эй да эй, над Кубанью-рекой
Ветерок шел низом…
Сороку одолевали видения и сны. далекие видения, смутные сны. Утро. Солнце светит. Птицы летают. Деревья цветут. Май. И, должно быть, праздник — вся станица высыпала в поле. Сколько народу! Глянь-ка, народу сколько! Старики, сидя на берегу реки, о чем-то негромко толкуют. Какой-то парень на гармошке играет. Девки поют. Хорошо. А вот ему, Васе, нехорошо. Нехорошо ему, тяжело. Он сидит один, маленький мальчик в белой рубахе, Васька, Вася, забился куда-то в угол, молчит. Он видит и реку, и поле, и народ в поле. Вот по тропинке ковыляет хромой Архип, кузнец, веселый пьяница и враль. Вон на околице ребята играют в лапту. Они визжат и кричат. Весело им. Отчего же ему-то невесело? Отчего же ему-то тяжело?
Сорока вдруг услыхал выстрел. Потом еще один. Потом много. Где-то стреляли: то ли близко, то ли далеко, то ли наяву, то ли во сне. Он не знал. Он хотел приподняться, встать — и не смог. Хотел крикнуть — и не крикнул, голоса не было. Он остался лежать, как лежал, закинув голову, открыв рот, неподвижный и прямой. И было не понять: дышит ли он или не дышит, жив он или не жив?
У сарая Федька наткнулся на рыжего солдата, тот стоял, прижавшись к стене, подняв руки, и быстро, захлебываясь, лопотал что-то, невнятное что-то, трусливое, жалкое.
— Где пленный? — крикнул Федька. — Пленный где?
— Тут! — Рыжий показал на сарай.
— Тут? — Федька вбежал в сарай. — Где тут?
Федька вбежал в сарай и остановился. Он со свету ничего не видел, в сарае было темно. Федька стоял у самой двери, глядел влево, вправо, глядел во все стороны и ничего не видел. Соврал он, рыжий, что ли?
И вдруг заметил что-то черное. Что-то чернело в углу: не то горка сена, не то груда тряпья. Подошел поближе. В углу на жесткой соломенной подстилке лежал Сорока. Он лежал, закинув голову, открыв рот, неподвижный и прямой. И было не понять: дышит он или не дышит, жив он или не жив.
Федька наклонился к нему.
— Вася!
Никакого ответа. Молчание.
Федька подождал и опять, громче:
— Вася!
Сорока зашевелился. Медленно, с трудом, поднял голову. Посмотрел на Федьку. Смотрел долго, широко открытыми, напряженными глазами. Вдруг улыбнулся, слабо так, чуть, и беззвучно, одними губами:
— Федька…
— Жив? — Федька кинулся к нему, обхватил за плечи, приподнял. — Вася! Жив?
Сорока не ответил. Закрыл глаза. Задышал тяжело, с хрипом. Потом, не открывая глаз:
— Федька… дай попить… а…
— Сейчас, сейчас. — Федька осторожно прислонил Сороку к стене и выбежал из сарая.
Где-то в поле еще шел бой, хлопали выстрелы, рвались гранаты, но тут, у овина, уже было тихо. Группа пленных солдат, под охраной двух конноармейцев, тесно сгрудилась у колодца. Они жались друг к другу и, косясь на охрану, виновато вздыхали.
Федька подбежал к какому-то солдату, рванул его за рукав.
— Воды!
Солдат испуганно попятился.
— Чего?
— Воды! — крикнул Федька и вдруг заплакал, громко заплакал, навзрыд. — Воды! — не своим голосом крикнул он. — Уб-бью!
Сорока малыми глотками пил студеную колодезную воду, а Федька, придерживая ему рукой голову, горячась и путаясь, говорил что-то и сам не знал что.
— Мы тебя, Вася, в больницу отвезем. Мы тебя, Вася, в самую лучшую больницу отвезем, — захлебываясь и торопясь, говорил он. — Вот увидишь, Вася. А доктору-то скажем: «Лечи! Лечи, — скажем, — коли жизнь дорога!» И вылечит. Вот увидишь, Вася.
Сорока отпил несколько глотков и лег. Он, должно быть, не слышал, что Федька ему говорил, а если и слышал, то не понимал, о чем речь.
— Он мне… — проговорил он вдруг голосом далеким и усталым, как со сна: — он мне: «Заговоришь»… А я ему: «Врешь!.. Врешь ты, — говорю, — шкура! Разве буденновца запугаешь?» — Помолчал и совсем тихо: — Не верится мне… Федька… что помру…
Читать дальше
![Дойвбер Левин Федька [Повесть] обложка книги](/books/29512/dojvber-levin-fedka-povest-cover.webp)