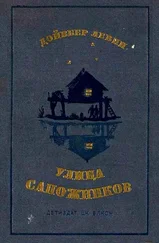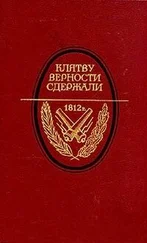— Ну, до свиданья.
— С богом, — сказал унтер. — Трогай.
— Но-о! — Сорока легонько шлепнул коня по шее. — Пошел!
Конь уныло мотнул головой: ладно уж, знаю. Махнул хвостом. Лениво тронулся.
И только отъехали они от овина, как услыхали голос, веселый громкий голос:
— Э, Трофимыч!
Федька испуганно обернулся. Переваливаясь на кривых ногах, подмигивая, ухмыляясь, к ним подходил солдат, невысокий, коренастый, с красным во всю щеку рубцом. Гришка! Гришка Скобло!
— Э, Трофимыч! — сказал Гришка. — Здорово!
Они стояли рядом, Сорока и Федька, плечом к плечу. Стояли, как полагается: руки по швам, носки врозь. Как в строю. Стояли долго, устали стоять. И потом — ноги кололо: мякина вокруг, труха, а Федька был босой — бинт с ноги сняли.
«Лапти бы дали, что ли, — сердито думал он. — Нет такого закона, чтоб босиком стоять. Врешь».
Они стояли у стола. А от стола к двери, от двери к столу, туда — назад, медленно ходил офицер. На него, не мигая, глядели часовые: рыжий солдат и старый знакомый, «калмык». Федька от нечего делать тоже смотрел на офицера.
Офицер, немолодой, в очках, все сутулился, ежился, кашлял — ему, должно, нездоровилось. На улице было тепло, жара, а его знобило, трясло. Зябко кутаясь в шинель, он ходил по овину и молчал.
И Сорока молчал.
И Федька молчал.
Было слышно, как где-то очень далеко высоким, тонким голосом поет баба в поле.
Тишина.
Вначале, часа два назад, когда Сороку и Федьку привели в овин, офицер не молчал, офицер говорил. Но он говорил, а Сорока молчал. Он спрашивал — Сорока молчал. Он уговаривал — Сорока молчал. Он грозился, кричал — Сорока молчал. Тогда и он замолчал. Ходил по овину и молчал.
«Долго он так ходить-то будет? — подумал Федька. — Надоело».
Видимо, и офицеру надоело — он присел за стол. По-бычьи нагнув голову, из-под очков уставился на Сороку.
— Значит, в молчанку?
Подождал ответа и не дождался.
— Что ж. — Опять встал. — Что ж. Можно и так.
Прошелся по овину. Вернулся к столу. Вдруг покачал головой и проговорил просто как-то и очень тихо:
— Только зря. Никому это никогда не помогало. Ни нашим, ни вашим. Зря.
Обойдя Сороку, подошел к Федьке. Задумчиво, как бы издалека, оглядел его с головы до ног:
— Ну-с? Ты как? Тоже глух и нем, ничего не вем? Или поговорим?
Федька вздрогнул, он не ждал вопроса. До сих пор его не трогали. Покосился на Сороку. Тот — ничего. И не шелохнется. И не моргнет. Будто не слышит.
— Так как же? — сказал офицер. — Поговорим?
Вот тоже «поговорим-поговорим»! Федька поднял голову. Чуть сощурясь, посмотрел на офицера.
— Поговорим.
И удивился — до того вдруг обрадовался офицер.
— Вот! Давно бы так! А то что же это?
Присел. Взял карандаш.
— Итак: какие части?
Федька помедлил ответом. Переступил с ноги на ногу. Откашлялся.
— Да эти… — как-то неопределенно и неторопливо сказал он. — Эти… Как их…
И замолчал.
Офицер чуть подался вперед.
— Ну?
— Да эти… — так же неопределенно, неторопливо повторил Федька. — Эти… Как их… Которые…
Вдруг подошел к столу, наклонился к офицеру и, глядя ему прямо в глаза, сказал негромко и немного таинственно:
— …которые, понимаешь, ваших бьют.
Сказал — и назад, на место. И опять: руки по швам, коски врозь. Как полагается. Как в строю.
Офицер молча проводил его глазами. И, не поворачивая головы, рыжему:
— Взять!
Шли они так: впереди рыжий, винтовка наперевес, штык примкнут. За ним Федька. За Федькой Сорока. За Сорокой, последним, «калмык», винтовка наперевес, штык примкнут.
Вышли из овина и, обогнув колодец, повернули к сараю.
От овина до сарая ходу было минуты три, ну пять. А Федьке казалось — шли долго, час. Федька шел, смотрел по сторонам и дивился: день-то какой! Как это он раньше-то не видел? Ехали с Сорокой, и был день как день, пыльный, жаркий летний день. А тут вдруг понял: такого дня и не было никогда, разве что во сне виделся.
Небо синее-синее, и на небе большое солнце. Направо поле, даль. Над полем тишина. И в тишине будто звон, будто звенит земля, звенит и поет. А воздух упругий, прозрачный, тугой, и видно далеко, от края до края. Вон ветряк. Кажется, рядом, весь виден. А ведь до него ехать часа два, не меньше. Вот у дороги чей-то порожний конь, опустил голову, траву щиплет. Сесть бы на этого коня да поехать. Ехать бы и ехать до самого до вечера. А вечером приехать бы в село и чтоб в этом селе стоял весь эскадрон, чтоб все тут — и Мишка, и Никита, и комиссар, Матвей Иваныч. Сорока пулемет чистит, а Мишка — ворот гимнастерки расстегнут, чуб на глаза — сидит, лениво перебирает гармонь. «Брось, — говорит Сорока, — брось тиликать. Лучше сыграй ты нашу, кубанскую».
Читать дальше
![Дойвбер Левин Федька [Повесть] обложка книги](/books/29512/dojvber-levin-fedka-povest-cover.webp)