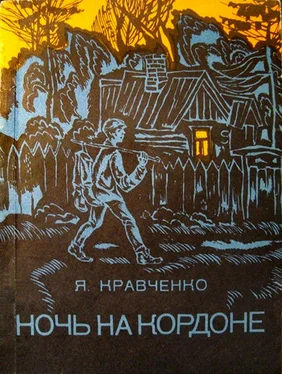Но улица была пустынна. Стук сапог полицейского по замёрзшим кочкам гулко раздавался вокруг. С мутного неба срывались снежинки. Я оглядывался по сторонам, но нигде своих мальчишек не видел.
Меня не расстреляли, а посадили в подвал, находившийся под сгоревшим музеем. В нём уже сидели четверо заросших, измученных мужчин в рваных одеждах. Один лежал под стеной на соломе с опухшим, в кровоподтёках лицом. Он временами пробовал ворочаться и при этом вскрикивал и громко стонал. Я решил, что у него переломаны рёбра и всякое движение причиняет ему боль.
В подвале я просидел остаток дня и всю ночь. Было очень холодно. В маленьких окошках под потолком были только одни рамы, — а железные решетки, как известно, греют плохо. Свернувшись калачиком, я нагрёб на ноги стружки, разбросанные на полу, и, привалившись к стене, задремал.
Утром громыхнул засов, открылась дверь, на пол упала полоска скудного осеннего света — заключённым принесли есть. В консервные банки налили дурно пахнущую похлёбку. Мне есть не дали, не то забыли, не то нарочно сделали так. И я не стал спрашивать, не до еды было. Если б даже и дали — кусок застрял бы в горле. Однако вечером я почувствовал голод. Под ложечкой засосало, но есть мне опять принесли.
— Что ж ты хлопцу ничего не налил? — спросил часовой у полицейского, принёсшего еду. — Пацан ноги вытянет, пока на допрос поведут.
Полицейский ответил, что у него числятся четверо, четверым он и принёс.
Я заметил, что нахожусь в подвале на особом положении. Меня не кормили, не выводили на прогулку, не вызывали на допрос, между тем как других допрашивали каждый вечер и через час вталкивали обратно в подвал.
Вторую ночь я совсем не спал, голод не давал покоя, в животе урчало, скулы на лице выперлись, и я отчётливо ощущал их ладонями. Заключённые делились со мной скудной пищей, но это ничего не меняло. Я быстро слабел и скоро перестал ощущать чувство голода. Целыми днями лежал я на стружках, привалившись к холодной стене и глядя вверх на окошко. Сквозь него виднелся кусок мутного осеннего неба, верхняя часть пожарной каланчи, а если был сильный ветер, в окошко заглядывали венки тополя, росшего на противоположной стороне улицы у здания старой поликлиники.
Ещё я видел ноги. С утра до сумерек шаркали они мимо решёток. Мелькали немецкие сапоги, мадьярские ботинки на толстой подошве с железными подковами, растоптанная жалкая обувь горожан, а иногда и лапти деревенских жителей. Я мог каждый вечер сказать, сколько их прошло за день.
Однажды утром, когда всех заключённых вывели во двор на прогулку и я остался один, свет в окошке заслонила человеческая фигура и в окно постучали. Я в это время дремал; мне казалось, что мы с Женькой сидим в камышах на берегу и удим рыбу. У меня клюёт, я хочу подсечь, но в это время Женька вдруг говорит мне:
— Серёж… Серёж… подойти к окну, я тебе есть принёс.
Я открыл глаза. Что такое? Нет, это не сон. За окном на корточках и в самом деле сидел Женька и гвоздём царапал стекло. Вот он отколол уголок и в образовавшуюся дыру просунул свёрток.
— На, возьми… Тётка передала…
Я с трудом поднялся, шатаясь, подошёл к окну.
— За что тебя посадили? — спросил Женька, втискивая мне свёрток.
— Говорят, я у полицейского наган украл.
— Наган? Вот это здорово! Какой же наган, как у милиционеров с барабаном, или такой, что патроны в ручку вставляются?
— Как у милиционеров, — невольно сознался я.
— Ты мне покажи, когда выпустят. Тебя тут мучают?
— Нет. Они меня голодом морят.
— Ты терпи… Мы тебя с мальчишками выручим. И есть будем приносить.
За дверью громыхнул запор. Женька отскочил от окна, а я опустился на пол.
В свёртке были кукурузные лепешки, несколько картофелин «в мундире» и маленький кусочек сахару. Я съел две лепешки, пососал сахар, а остальное бережно завернул в тряпочку и спрятал за пазухой. Ещё неизвестно было, сколько мне здесь сидеть.
В подвал пришли трое полицейских и с ними тот, что арестовал меня. Один из них, очевидно старший, спросил:
— Откуда тут мальчишка взялся?
— Это я его посадил… — ответил высокий.
— Зачем? Харчи переводить?
— Мы его не кормим. Подозреваем, что он украл у меня наган.
— Ты расскажи кому-нибудь, что грудной ребёнок у тебя наган украл, — засмеют. Всыпь ему плеткой и выпусти. Не разводи тут детский сад.
Высокий промолчал, и они ушли.
Я понял, что меня всё равно не выпустят.
Так просидел я в подвале ещё двое суток. Я не надеялся, что Женька с мальчишками смогут освободить меня, но мне было радостно, что они вспомнили обо мне и у них есть желание мне помочь.
Читать дальше