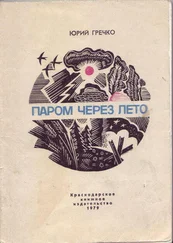— Если плыть и плыть, доплывешь до самого моря, — сказал Генка.
— На такой путь и всего лета не хватит.
— Знаешь, как штурманы определяют, где находится корабль, когда никаких берегов нет поблизости? По звездам. Есть такой прибор — секстант, ночью его наводят на звезды и измеряют какие-то углы, а по ним — долготу и широту, и получается точка на глобусе, — отвлекаясь от рыбалки, объяснял Генка.
Колька, видимо, плохо слушал его, потому что спросил совсем о другом:
— Ты есть хочешь?
— Нет. Давно ли ужинали.
— А я проголодался.
Между тем стало светлей, потому что взошел месяц и поплыл лодочкой над ракитником вровень с корытинами. Генке хотелось, чтобы тесные берега ушли далеко в стороны, освободив для воды огромный простор, залитый туманно-белым лунным светом. Ему представлялось, как стоял бы он на капитанском мостике настоящего судна, уверенно ориентируясь по карте звездного неба.
Вероятно, наткнулись на бревно-топляк, чуть торчавшее из воды: корытины, распираемые надутой камерой, раздвоились, оказево вместе с горящим смольем со зловещим шипением упало в воду, и Генка с Колькой тотчас полетели за борт.
— Окунь, ты где? — растерявшись в темноте, крикнул Генка. — Камеру хватай, а то унесет!
Колька даже не мог ответить, он отчаянно барахтался и фыркал, будто за ноги его хватал водяной. В резиновых сапогах, в одежде (на Кольке — фланелевый спортивный костюм, на Генке — тельняшка с пиджаком) плыть трудно. Все же успел догнать Генка камеру, только ее и удалось вытащить на берег после такого крушения.
— А корытины? — с беспокойством спросил Колька, придя в себя.
— Черт с ними! Старье. Развалились — туда им и дорога!
— Если Каюров узнает, он всыплет нам.
— Неужели ты не видел, что на бревно натыкаемся? Светло впереди-то, — упрекнул Генка приятеля.
— Сам правил, а сваливаешь с больной головы на здоровую.
— Уж острогу не мог удержать в руках… Жаль, спички намокли, сейчас бы посушить одежу. Давай вместе выжмем.
— Бры-ы! Зуб на зуб не попадает, — нетерпеливо, как на снегу, приплясывал Колька. — Я не буду надевать мокрое.
В одних трусах на ощупь пробрались через ветловник на дорожку и пустились бегом к дому. Генка тоже нес одежду в руках, но тельняшку надел, чтобы случайно не обронить.
Не беда, что первое плавание закончилось столь бесславно. Наверно, Генка Сотников, выросший далеко от моря, в среднерусской деревне Киселихе, все-таки станет капитаном. Сам адмирал Смирнов начинал путь к морю с освоения никому не известной речки Вохтомы.
Я выхожу на поле и вижу новый сруб у трех завьяловских берез, и овладевает мною чувство, близкое к ликованию. Сколько лет, приезжая в отпуска, с болью наблюдал я, как убывает Нагорье; казалось, не будет конца этому убыванию (от некоторых соседних деревень остались уж только названия).
Еще на станции я узнал, что до нашего совхоза начали строить шоссе. Попутный самосвал прокатил меня с приличной скоростью по готовому четырехкилометровому участку до речушки Трусихи. Дальше я шел пешком, и меня обгоняли трехосные тягачи с длинными стволами бетонных опор для электрической линии, трасса которой тоже прошла возле нашего Нагорья. И вот новый сруб…
Весной мать писала, что вернулся Завьялов со своей Настей и ставит дом на месте прежнего, что живут пока они у нее. Обрадовался я несказанно этому письму, потому что не мог представить деревню без Завьяловых, семья у них многолюдная, работящая и веселая. К тому же соседи они нам, жили мы с ними в большом миру. Несколько лет назад они уехали в Горький, а теперь, поборов гордость и сомнения, вернулись, не побоялись пересудов.
Сыновей у Завьялова четверо. Старшие, Витька и Саня, были моими первыми дружками в детстве. Завидовал я им: куда ни пойдут — всегда несколько человек. Мать так и говорила «Вон Завьялова бригада по рыбу пошла». В таких случаях я хватал удочку и догонял Завьяловых.
Из последнего письма от матери я знал, что Витька обещается на днях в отпуск: помочь хочет отцу управиться до зимы с домом.
Меньше километра остается до Нагорья, до встречи с матерью, с Витькой, с самим Завьяловым. Зелено-голубой мир детства, дивный, как бы поющий под солнечным ливнем, он живет во мне, радует и согревает.
В этом поле у дороги всегда сеяли рожь, и теперь она колосится до самого Курьяновского оврага, еще нежно-зеленая, цветущая, мохнатые колосья бьются о ладони, осыпая пыльцу. По волнам ржи быстро скользит слабая тень от высоко парящего облака, словно кто-то невидимый приглаживает поле. В такую пору дед мой признанный в Нагорье грибник, брал меня в лес по маслята-колосовики. Первый выход за грибами был для него сущим праздником. Помню, возвращаясь из лесу, мы обычно садились у оврага отдыхать. Дедушка подолгу держал в руках, как случайно найденное счастье, первый белый, причмокивал, любуясь и давал ему высшую оценку: «Ядреный!»
Читать дальше