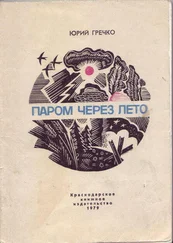В последнее лето здоровье деда заметно сдало, одышка и ревматизм его мучили. В лес он почти перестал ходить, разве что иногда со мной. Вместо корзины дед прихватывал четвертную бутыль под муравьев. В ближайшем лесу мы отыскивали муравейник побольше: я бежал искать грибы, а дед оставался ловить муравьев. Делал он это очень просто — зароет бутыль в муравейник так, чтобы горлышко немного торчало, и сидит, попыхивая цигаркой на пеньке или валежнике. Муравьи текут и текут, как льняные семечки, к горлышку, заглядывают в бутыль и падают на дно, а обратно им уже не выбраться. Из муравьев дед дома выжимал «муравьевый спирт» и натирал им после бани ноги…
Перед селом все еще стоит кузница, иван-чаем обросла, стропила оголились. В войну без нее было нельзя. Кудесничал в ней тогда Кузьмин Иван Захарыч. Он мог все: гнул из жести ведра, ковал лошадей, чинил телеги, жнейки, замки, часы. Кто бы ни ехал, кто бы ни шел по дороге — останавливались у кузницы покурить и поговорить с Иваном Захарычем. Все любили его за трудолюбие и уважительность.
Мы целыми днями околачивались в кузнице, она нас привлекала грудой разных металлических деталей, сваленных в углу, горьким запахом окалины и угля, гудением горна, из которого вырывалось сизое пламя, и усталыми вздохами мехов. А еще завидовали мы подручному Ивана Захарыча — подростку Сеньке Куркину. Сенька казался нам силачом: он качал мехи, лихо бил молотом по заготовке так, что искры брызгали по всей кузнице. Сенька гордо считал себя молотобойцем.
Интересно было наблюдать их слаженную, крепкую работу. Иван Захарыч брал длинными щипцами поковку, совал ее в горн, а потом извлекал оттуда раскаленную добела и, положив на наковальню, ударял по мягкому металлу молотком-ручником, указывая Сеньке место, по которому нужно было бить. В строгом ритме сыпались удары: Тук… Дзинь-дзинь-дзинь… Бух! Иван Захарыч, стукнув по поковке, сбрасывал ручник на гладкую, звонкую наковальню, а в это мгновение тяжело опускался Сенькин молот. Поковка начинала краснеть, покрываться темно-лиловыми пятнами, и ловкие щипцы Ивана Захарыча снова отправляли ее в огонь. А когда деталь была готова, он бросал ее, раскаленную, для закалки в деревянный чан с черной водой. Вода шипела, рокотала, извергая клубистый пар.
Сенька мало обращал на нас внимания, садился подле Ивана Захарыча на порог и закуривал с достоинством рабочего человека. Теперь тот Сенька — главный механик крупного завода…
В нашем селе много берез. Три завьяловских выделяются высотой, они одинаковы, как сестры-близнецы, белоствольные, с гибкими ветвями, свисающими подобно распущенным косам. В войну мы каждую весну «гнали» березовый сок, и теперь все березы в метинах, в топорных шрамах, кроме завьяловских.
Стволы у них были настолько гладки и чисты, что никто из ребят не решился их ранить. Они было осиротели, когда старый дом Завьяловых сломали на дрова. Сейчас под стать им вырастет белый сруб. Вон кто-то забрался на него, то ли Витька, то ли дядя Ваня, широко замахивается топором, и делает запаздывающий сочный звук, похожий на удар арапника.
Я люблю Завьялова. Быть может, я перенес на него любовь к своему отцу, которого совсем не помню. Отца я ждал с фронта, но не дождался, а когда пришло извещение, что он пропал без вести, кажется, даже не плакал — мне было шесть лет.
Завьялов оказался самым счастливым из нагорьевских мужиков, он первый вернулся с войны. С того дня я его и знаю. Мы прибежали откуда-то с Саней и Витькой, глядим: стоит рядом с тетей Настей на крыльце военный — медали, ордена на широкой груди, улыбается, красиво прищурив голубые глаза. Остановились и смотрим на него, а мать Санина и Витькина говорит:
— Ждали, ждали папу, а теперь не узнаете!
Саня с Витькой подбежали к отцу, он их обоих сразу схватил, целует по очереди. Потом ко мне протянул руки:
— Ну, а ты чего стоишь?
Я подскочил, повис у него на шее, он и меня поцеловал, и я до сих пор, кажется, ощущаю прикосновение пахнущих махоркой солдатских усов.
Вечером сельчане собрались у Завьяловых. Дед мой сидел рядом с дядей Ваней, расспрашивал о «германце» (в первую войну он воевал пулеметчиком). Помолодевшая тетя Настя сновала среди гостей; бабы откровенно завидовали ее счастью, смотрели, как на чудо, на дядю Ваню: одни — с вялой улыбкой, другие — жалостливо, третьи — совсем отрешенно. Веселья не получалось. Тогда дядя Ваня встал и сказал:
— Мне совестно, бабы, перед вами. Наверно, некоторые думают, мол, кто по-настоящему воевал, тот не вернулся. Войну я прошел по совести… А мужиков надо ждать. Давайте выпьем за победу!
Читать дальше