Юрий Григорьевич Качаев
Таёжка


Ночью к избушке приходили волки. Они садились у старой подсоченной сосны и начинали выть. Василий Петрович дважды вставал, брал ружьё и выходил за порог.
Вой сразу стихал, потом раздавалось короткое «буо-ахх» и скрипел снег.
Таёжка представляла волчьи следы на зернистом лунном снегу, пугалась и натягивала одеяло до подбородка.
С рассветом Василий Петрович взял широкую деревянную лопату и, пока Таёжка кипятила чай, расчистил сугробы вокруг зимовья. За оттаявшим окошком темнела стена бора.
Таёжка торопливо глотала чай из толстой эмалированной кружки; чай был горячий, и в него пришлось бросить осколок мёрзлого молока. Молоко Таёжка не любила. Когда отец приносил из деревни ледяные, каменной крепости круги, Таёжка снимала с них ножом только жёлтые шапочки — сливки. Если их посыпать сахаром, получается почти мороженое.
Последний раз Таёжка ела мороженое в Красноярске, куда они с отцом ездили по делам. Город был большой, но не такой шумный, как Москва. В памяти у Таёжки остались широкие прямые улицы, обсаженные сибирскими клёнами, лысая громада Караульной горы с часовенкой на вершине, тонкий шпиль речного вокзала, зеленоватая солнечная гладь Енисея и белые пароходы на ней. И ещё запомнилось здание Лесотехнического института, куда отец заходил повидать какого-то товарища.
Позавтракав, Таёжка сложила в рюкзак книги и стала одеваться.
— Я тебя провожу, — сказал Василий Петрович.
Они вышли, надели лыжи и заскользили по следу, который вчера проложила Таёжка. Пар от дыхания сразу смерзался, и воздух чуть слышно шелестел, как будто в руках разминали шёлк.
В стороне от лыжни снег держал плохо, но Таёжка всё время сворачивала в сторону и разглядывала следы. Особенно много следов было в березняке. Здесь ночевали тетерева: в снегу повсюду темнели их лунки с катышками помёта.
В одной из лунок Таёжка нашла горстку перьев, а вокруг были следы, похожие на собачьи.
— Лиса, — сказал Василий Петрович. — Погубила птицу, разбойница.
Ещё Таёжка видела замысловатые петли заячьих следов: две лапки впереди, рядышком, и две сзади — одна за другой.
Утро медленно набирало силу, и деревья уже отбрасывали длинные голубые тени. Когда вдалеке, за пустынной гладью зимней реки, засветились огоньки деревни, Таёжка сказала:
— Дальше не провожай. Сама добегу.
Она обернулась. Отец стоял, опираясь на лыжные палки, и улыбался. Борода и усы у него были совсем белые от инея.
— Ты похож на Деда-Мороза, — сказала Таёжка. — И я тебя очень-очень люблю.
Василий Петрович смутился.
— Ладно, — сказал он. — Я буду ждать тебя в субботу. Придёшь?
Он снял рукавицу, подошёл вплотную и протянул Таёжке руку. Рука была большая и тёплая.
— Я, наверное, приду с Мишкой, — сказала Таёжка и, сильно отталкиваясь палками, побежала по лыжне.
Огоньки мелькали всё ближе и ближе. Половина Мариновки ещё спала, но где-то уже скрипел колодезный журавель и сонно брехали собаки. По дороге Таёжке встретился обоз. Таёжка посторонилась, и мимо неё прошло до десятка лошадей. От них вкусно пахло сеном, теплом и дёгтем. В санях, завернувшись в дохи, сидели возчики и попыхивали махорочными цыгарками.
В Мишкином доме горел свет.
Таёжка сняла лыжи и вошла в полутёмный, крытый листвяжными плахами двор. На неё залаяла собака.
— Буран, Буранка! — шёпотом позвала Таёжка. — Не узнал?
Огромный волкодав подошёл и завилял хвостом. Таёжка достала из кармана кусок сахару и протянула собаке. Буран осторожно, губами, взял с ладони сахар и с хрустом разгрыз.
Таёжка пошла к крыльцу. Буран бежал рядом и заглядывал ей в глаза.
— Хватит, — строго сказала Таёжка. — Вконец избаловался.
Она постучалась и, не дожидаясь ответа, потянула на себя тяжёлую, обитую войлоком дверь. У печки возилась с чугунами Мишкина мать.
— Доброе утро, — сказала Таёжка. — А где Миша?
— Пошёл корове сена дать. Раздевайся. Заколела небось?
— Нет, я не замёрзла. Всю дорогу — бегом.
Мать поставила на стол стакан горячего чаю и тарелку со свежими шаньгами. Шаньги были такие пухлые и румяные, что казались живыми, и Таёжка не смогла отказаться.
Читать дальше
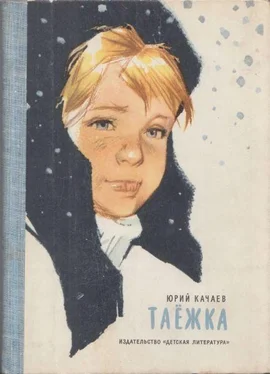








![Юрий Качаев - ...И гневается океан [Историческая повесть]](/books/403225/yurij-kachaev-i-gnevaetsya-okean-istoricheskaya-pov-thumb.webp)
