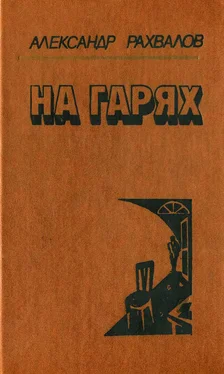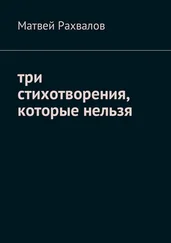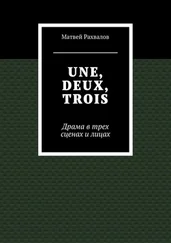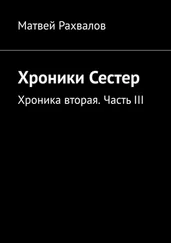Они не завтракали, потому что в это время разбирались с «гумагами», а к обеденному столу дочка вышла уже в форменном платьице, села с краю, как сирота. Клава наблюдала за ней из окна, смахивая слезы. Девочка склонилась над миской и неумело вылавливала из нее суп — Клаве казалось: пустую ложку подносит ко рту. Коротко стриженная, с тоненькой шейкой, она отличалась от всех — коридорная сырость не слизнула еще с ее щечек детского румянца. Запах умывальной и туалета… Оттуда и наползала сырость, пропитанная жгучей хлоркой.
Ощущение этой сырости Клава унесла с собой, поклявшись забрать девочку в тот же день, как окончит курсы. Она знала — нигде не найдет тепла и покоя, пока дочь живет в этой сырости…
«Она еще рядом, — подумалось ей. — Может, забрать?»
Нет, не забрала.
Не помня себя, она вернулась в Обольск, а в глазах — дочка склонилась над миской и зачерпнуть из нее не может, опять подносит пустую ложку ко рту. Только губы мажет…
Клава едва забылась. Последнею ее мыслью почему-то была мысль о муже, который под утро затих, не метался больше, бросаясь на стену, не скрипел зубами. «Завтра куплю ему рубаху, — решила она. — Хочется белую-пребелую».
Кошка, подбежав к двери, промяукала, просясь на улицу. Сейчас должен был проснуться Тихон. Он встанет, как всегда, и выпустит одуревшую кошку, успев уловить «привкус» погоды, чтобы одется по ней.
Потом он снимет с печки ведро, разомнет руками вареную картошку для свиней, наладит сытное пойло корове и теленку, выйдет на улицу…
Вывалятся из конуры собачушки, запотягиваются, разминаясь, но тишина покуда не сойдет с привычного круга.
Тихон поставит ведро и присядет на крыльце, подзывая собачушек.
— Собаки, милые! — начнет он хрипловатым спросонок голосом. — Я вам честно скажу: жизнь прекрасна!
Скворцы, раскачивая на шесте скворечник, будут лопотать по-своему над головой Тихона. Прислушиваясь к их голосам, он из зависти, что ли, решит: вчера они веселей были. Ожирели, черти, обленились. Надо их шугануть, чтоб не заразили ленью.
После чего он подхватит ведра и шагнет к хлеву.
В соседях ругались с самого сосранья, как выражался старик, когда поминал квартирантов. Леха бубнил, Алка — не кричала, а чеканила пятки.
— Тунеядец, бич, шельма, — чеканила Алка, колотя ногой в двери. — Совсем обнаглел, бичара, — вторую неделю одна езжу на свалку. Кончать тебя надо, кончать.
— Бу-бу-бу! — бубнил Леха, закрывшись в сенях.
— Хрен тебе на губу! — злилась Алка, не переставая колотить в дверь. — Ты еще, бичара, попомнишь: я тебя на голяке оставлю. Вот увидишь. Божусь.
Через две минуты она показалась на Велижанском тракте. А еще через минуту попутная мусоровозка унесла ее в сторону городской свалки. Алка уехала на работу.
За ночь, казалось, тюрьма выветрилась. Табачная гарь осела на стенах, и свежий воздух бродил по камерам.
В сорок третьей уже не спали. Отлежав за ночь бока, малолетки разминались в проходах, приседали и отжимались на руках. Косточки потрескивали, когда отжимался Котенок: руки его не знали устали, потому он мог отжаться тысячу раз и не охнуть.
— Лучше тыщу раз по разу, — балагурил он, — чем ни разу тыщу раз. В рот меня высмеять.
Роман искоса наблюдал за ним и завидовал его непомерной силе и ловкости.
Потянулись первые часы нового дня — повторялся в точности вчерашний, опостылевший до не могу.
Писка и Зюзик — с этой мелкотой Роман почти не разговаривал, потому что не любил их за пустой, как прикрытый рынок, торг — кричать кричали, едва ли не набрасываясь друг на друга с заточками, а товару не было. Пустая, надоедливая болтовня.
Зато перед Котенком он мог раскрыться без боязни: верилось, что тот не плюнет в раскрытую душу. Честь не позволит, если она есть у него.
— Хохочешь, собака, — ухмылялся в подушку Роман. — Но я-то знаю, что тебе не веселей меня живется. Ты, брат, не из этих пустотелых, хотя тоже срублен прокурорским топором. Ничего, поговорим — я своего добьюсь.
— Чего шепчешь? — настораживался Котенок. — Порчу на нас напускаешь?..
На прогулке Роман заговорил с Котом о голубях, живших под тюремным козырьком, но Котенок, насторожившись, свел все к шутке.
— Не люблю говорить о птицах, — отвернулся он. — Да и прежде не любил. Сомнительный символ воли, этот голубок. Но верь в него, если по нраву, а мне не в кайф.
Больше они ни о чем не говорили. А Котенок, проехавшись на Зюзике верхом, запросился вдруг в камеру. Надзиратели вывели их из прогулочного дворика раньше времени.
Читать дальше