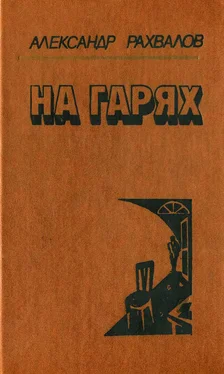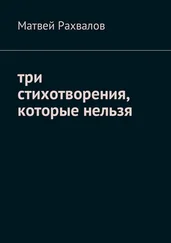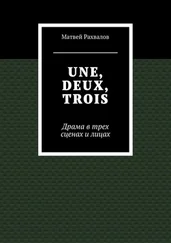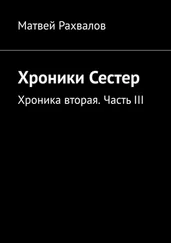Возле поворота на Слепушиху толпились какие-то люди. Подошла поближе — многих узнала: да, слепушевские! Но почему здесь? Рыдая и охая, люди подходили к телеге с белыми как снег узелками — такие собирают косцу, когда он уходит на целый день в луга. Клаве подумалось: может, кого-то на кладбище провожают? Она спешно подошла к тем, что толпились на обочине, и спросила: «Кого хоронят?» — «Хуже, матушка, — отозвалась какая-то старушка, незнакомая ей. — Отдаем на излеченье Таиску… Ох, работница-то была какая, ох, работница! Войну победили, а водку проклятущую не смогли… Мужики тоже попивают, но отдаем бабу, чтоб спасти: она дороже».
Люди скорбели по пьянчужке; тогда в деревнях еще могли сострадать всякому человеку, попавшему в беду. Потому и Таиску порешили отправить на излечение всем миром, чтобы вернуть — цену человеку знали, не холстины аршин…
Пятнадцать лет прошло с тех пор, как где-то за тридевятой землей отгремела война, а люди уж стали расползаться по своим укромным щелям, перегоняя и отталкивая при этом друг друга. Каждый старался вползти в свою щель, теплую и глубокую, чтобы скорее начать жить своей крохотной радостью.
Вскоре Клава устроилась в пошивочную мастерскую, получила комнатушку. Обласкали старые портнихи новенькую, заботились о ней. Какой кусок вельвету выкроят — ей несут: «Бери, Клава, чего-нибудь ребятишкам выкроить». И Клава выкраивала — детей одевала как куколок.
Потихоньку-помаленьку, но жизнь налаживалась. Нечего было бога гневить.
Летом старики продали дом-крестовик в Мечатном и срубили на окраине райцентра добрый пятистенок. Работать на дому приходилось только вечерами да в праздничные дни (он слесарничал, она обстирывала пекарню, выйдя из колхоза, где порядком износилась и надорвалась). Работали до упаду. И всем был хорош старик, но не любил, когда путаются под ногами — кто в помощники навязывается, кто с советом лезет, одна суета. Потому он отгонял от себя и родных, и знакомых, точно не доверял им, — всех отгонял, что крутились подле них, норовя прошмыгнуть в недостроенные сенки, а там — прямо к столу. Работали они на пару. Повсюду так строились, и они не хотели ни в чем уступать галдевшим соседям… А те спешили жить, будто готовились к какой-то необыкновенной завтрашней жизни: благо, что ее не только прославляли по радио, то есть на слух, но и в школьных учебниках печатали: огромные быки, фляги с молоком, улыбающиеся доярки в белоснежных, как у врачей, халатах, и цифры, цифры, цифры — просто в голове не укладывалось. Без десятилетки не осмыслить. За хлебом приходилось покуда толкаться в очередях, но все сознавали: завтра приближается, завтра уже на подходе, как уборочная страда. И каждому думалось об одном: «Не прозевать бы свою судьбу». А то бывает: судьба-то придет, но выпустишь ее из рук, точно скользкую рыбину.
И все каким-то необыкновенным, неосмысливаемым образом уяснили для себя, что в завтрашнем плодородном, богатом дне потребуется только крепкая крыша над головой, даже деньги — к чертовой бабушке! И люди торопились, отчаянно размахивая топорами, — в чувствах и мыслях они летели, как на пожар, не разбирая в бегущем потоке, кто здесь мужик, а кто баба. Так и в этой семье все спуталось. Разве что под комель, когда поднимали венцы, она не вставала — сам кряхтел, беспокоя раненую руку.
В жуткую для себя пору Клава ездила на окраину райцентра. Подгоняла лошадь к дому родителей, когда старик был на работе, и прямо с порога просила: «Выручай, матушка! Нету ни дров, ни картошки… Пропадаем». Старуха с оглядкой разрешала ей выбрать треть клетки из березовой поленницы и нагребала картошки. «Он ведь меня съест, — оглядывалась она, поминая супруга. — А ты, знать, до самой смерти теперь побираться будешь». — «Не буду, матушка, — отзывалась Клава. — Бог даст, заживем». — «И ведь отец-то у тебя такой же неудачник был, — ворчала старуха. — Бывало, башкой бьется о косяк, но поправить некогда. Скажу: поправь, нечистый тебя унеси… Так нет, после, отвечает. А война началась — с радостью бросился на войну. Понятно: в тылу-то робить да робить пришлось бы, а в окопе — хоть до пенсии сиди-посиживай, не обдерешься до самых косточек… Не добровольцы они, а лентяи проклятые, — потрясая сухоньким кулачком, ругалась старуха. — Убежали в окопы сидеть, так хоть бы после войны возвращались. Только и славы, что ласковым и заботливым был: когда председательствовал, отправит баб на работу, мужиков следом, а сам растянется на траве — ребятишки по пузе ползают, не нарадуются…»
Читать дальше