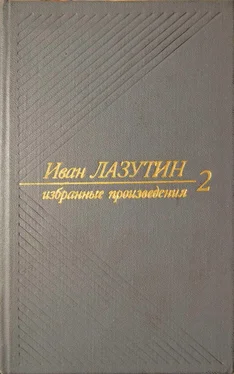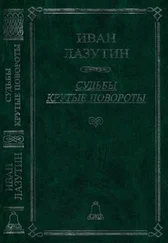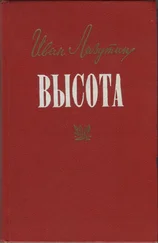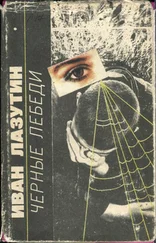«Теперь мой Лексей пойдеть! Это тебе не жук на палочке и не какая-нибудь хухры-мухры пехота, а авиация. Понимать надо! Теперь мы с ним заживем!..»
Разглаживая рыжие буденновские усы, Кирюха, старый солдат, кавалер двух Георгиев, знающий толк в военном деле, поддерживает Евлампия:
«Да, авиация, это, родимец тебя расшиби, сила. Всем силам сила! Сроду не забуду, как нас однова под Березиной клевушил сверху немец… Да что там говорить! — Кирюха махнул рукой. — Давай-ка, кум, еще по махонькой, за Алешку, чтоб служилось на славу».
Двое сидели у костра и молчали. Ночь была тихая, темная, а у костра на берегу озера она казалась еще темнее. Горьковатый запах неотцветшего багульника смешивался с сухим душком печеной картошки, которая торчала своими сизыми боками из горячей золы. Шагах в пяти от костра ритмично, но всякий раз на новый лад, по-детски всхлипывала черная, бархатно-тяжелая волна. Она ударялась о крутой торфяной берег, с которого до самой воды свисали кусты подмытого багульника и брусничника.
Дронов подбросил в костер легкую охапку сухого валежника. Прожорливые языки пламени, обволакивая хрупкие ветки, вспыхнули ярче. Быстро разрастаясь, они плавно плясали в воздухе и напоминали Дронову огненно-рыжий шар, летающий над головой фокусника, недавно выступавшего в сельском клубе.
Низкорослые сосенки и кривоногие березки, скупо освещенные пламенем костра, казалось, замерли на месте и словно чего-то ждали, притаившись в тишине.
Дронов отстегнул пояс-патронташ и сразу почувствовал облегчение. «Вот так всегда, — подумал он, — стоит освободиться от того, что долгое время тяготит и сразу гора с плеч». Завернув ружье и патроны в клеенку, чтобы поутру их не прихватило росой, он расстелил брезентовый плащ на зеленый мшистый ковер, усеянный недозрелой клюквой, и прилег. По другую сторону костра на кочке сидел его племянник, курсант военного училища, приехавший на летние каникулы отдохнуть. Это был высокий, стройный двадцатилетний молодой человек с нервным выразительным лицом и задумчивыми глазами. Неотрывно глядя на костер, он будто видел в его неровном пламени что-то свое, глубоко личное, затаенное и горькое. Чувствовалось, что у него неспокойно на душе, гнетет его тяжелая неотвязная дума. Дронов знал эту думу. Он понимал, почему в глазах Сергея за весь вечер всего лишь раз засветилось оживление. Это было перед закатом солнца, когда над головой со свистом пронеслась стая уток.
Весь вечер Дронов ломал голову, как бы по душам, осторожно и по-мужски поговорить с племянником, чтобы помочь ему сбросить хоть часть давившего его груза. Но он не находил, с чего начать. А молчать дальше было нельзя. Жена Дронова, Лукерья Анисимовна, стала тревожиться, что Сергей плохо ест, по ночам курит и что-то все пишет, пишет…
Неделю назад Дронов случайно наткнулся на тетрадку в клеенчатом переплете, неосмотрительно оставленную племянником на столе. Это был дневник Сергея.
Нехорошо читать чужие записи, в которых человек исповедуется перед самим собой, но Дронов, побуждаемый отнюдь не любопытством, а тревогой за племянника, после долгих колебаний несколько страниц прочитал.
И тайна раскрылась. Извечная, древняя, как мир, трагедия первой любви — пылкой, чистой. И, почти, как правило, неразделенной.
Юность… Она чрезмерна во всем — в печали и в радости, в надеждах и в отчаянии.
И вот — дневник. Настораживающие есенинские строки:
В этой жизни умереть не ново,
Но и жить, конечно, не новей…
Что это — зародившаяся мысль или созревшее решение?
Юность… Как широко и размашисто бросается она еще неизведанной и многообещающей жизнью, даже не вдумавшись хорошенько, в чем ее смысл.
«Умереть не ново» — лаконично и просто, как застегнуть пуговицу…
Дронов смотрел на освеженное купанием лицо племянника, который лениво, будто из вежливости, жевал испеченный теткой пирог.
Смотрел и любовался. Любовался и недоумевал: «Пренебречь любовью такого парня! Какого же рожна нужно этой девчонке?»
Дронов нарочно предложил Сергею пойти на охоту, рассчитывая на откровенную ночную беседу у костра.
Но как начать этот щекотливый разговор? Не искушенный в сердечных делах, Дронов полагал, что любовь больше понятие книжное, чем житейское. Жену свою, Лукерью Анисимовну, за двадцать лет совместной жизни он пальцем не тронул. Жалеть — жалел, а вот любил ли — не задумывался: брак для Дронова был прочным и неразрывным узлом, который, по его убеждению, навечно связывает две жизни.
Читать дальше